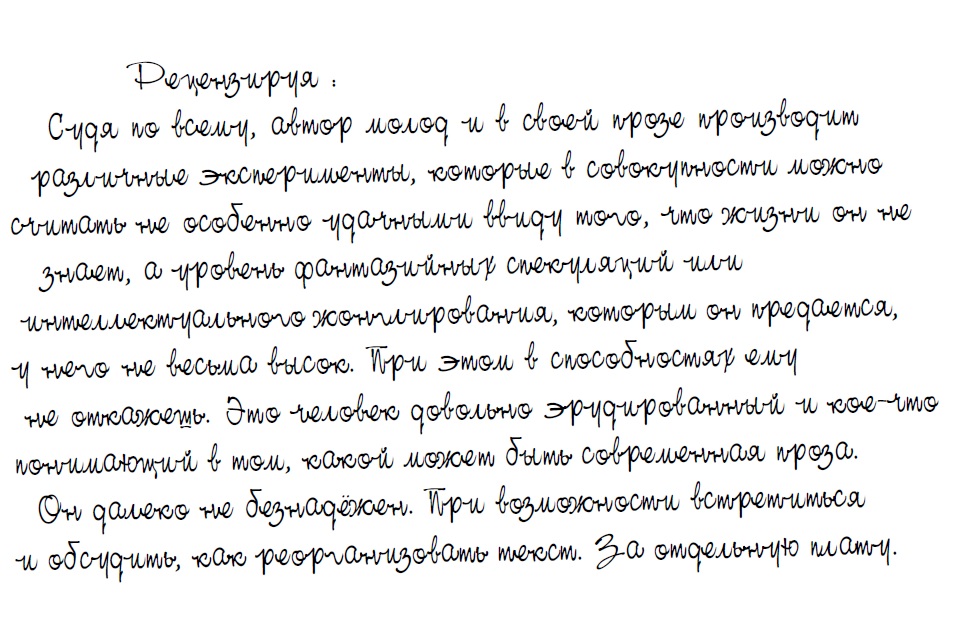Повесть
Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 2, 2022
Владислав Городецкий — архитектор, писатель. Родился в 1993 году в городе Щучинске на севере Казахстана. Окончил Архитектурный факультет КазАТУ им. Сакена Сейфуллина. Автор книги «Инверсия Господа моего» (2020). Лауреат премии «ФИКШН35». В «Дружбе народов» публиковал рассказы (2017, № 1).
В начале было Слово. А почему, папа?
(х/ф «Жертвоприношение», 1986)
День первый
Поезд прибыл на Московский вокзал ранним утром. Из Кемерова в Петербург — почти трое суток. Соседи по плацкарту, как и виды из окна, менялись весьма условно, не было нужды произносить своё имя и запоминать чужие. Весь путь удавалось сохранять независимость, держаться в стороне, чтобы теперь, дождавшись остановки поезда, оказаться зажатым со всех сторон позеленевшими от усталости, опухшими от выпитого чая, людьми.
Пассажиры по одному выплёвывались как лузги[1] в сырой густой туман, пропадали в нём, сделав несколько шагов.
Поторапливаемый тычками в спину, Данила спустился на перрон, выхватив из общего гомона чью-то просьбу: «Угостите сигаретой». Обращались к нему. Прошёл мимо, не поднимая взгляд, — в пачке оставалось совсем немного. Кто-то другой удовлетворил просьбу просившего. «А можно парочку?» — донеслось оттуда же. И следом: «Бог — это Троица, дайте три».
С минуты на минуту на платформе появится Андрей, обнимет и подхватит тяжёлую сумку; кто кого заметит первым? Такое долгое расставание, что впору заново знакомиться.
Данила прикурил, но, не сделав и затяжки, смочил пальцы слюной и потушил сигарету, — показалось, что на огонёк, как на маяк, побрёл этот приставала, готовый кого угодно помянуть всуе, лишь бы заграбастать побольше. Данила положил сигарету обратно в пачку. «С Андреем покурим», — решил он.
Филология, литературоведение, педагогика — да и всё прочее, чему учили в университете, не то что не пригодилось Даниле в жизни, а наоборот, казалось, замедлило социализацию. После того, как разъехались по столицам друзья, Данила оглянулся на окружающих и с ужасом осознал, что для всех, включая немногочисленных родственников, стал чужаком. Большая работа была проделана, чтобы искоренить в себе всю книжность, снова научиться разговаривать просто с простыми людьми.
За университетских друзей было радостно: кто-то стал журналистом, кто-то успешно защитил кандидатскую и преподавал в видном вузе, одна девочка, несмышлёная хохотушка, стала писательницей, но телефонные разговоры становились всё короче: приятелям было в тягость слышать о Данилином скудном бытие, о его бесприбыльном видеопрокате, об одиночестве и тоске по созидательной деятельности, и, что самое глупое, после таких разговоров Данила и сам стыдился себя.
Только с Андреем почему-то всё было иначе.
— Ну, приве-ет! — приятно протянул Андрей, незаметно выступив из толпы. Всё тот же, разве что слегка поседел да округлился. Тепло обнялись.
— Покурим? — предложил Данила и достал две сигареты: мятую, с растрёпанным подпалённым табаком для себя и стройную чистенькую для друга.
— Ты кури, ты с поезда. Наверное, с утра ещё не успел?
— Бросил, что ли?
— Лет пять как, — почти виновато признался Андрей.
Туман улетучился. Вагоны пустели, мужичок в оранжевой жилетке постукивал молотком по колёсам поезда, те отвечали тревожным звоном. Повторно зажжённая сигарета омерзительно пахла — полетела на рельсы недокуренной. «Ну что, пошли?»
В метро спускаться не стали, хотя путь предстоял неблизкий. Прошагали по кромке Площади Восстания и вышли на Лиговский проспект к остановке. Разновеликие дома плотно смыкались торцами, образовывая неритмичную сплошную линию фасадов, но как будто совершенно игнорировали такую неестественную близость: не поддерживали друг друга ни этажностью, ни цветом отделки, ни, уж конечно, хоть каким-нибудь стилистическим единообразием. Данила старался не удивляться — разглядывал непривычную архитектуру как бы невзначай.
Подошёл автобус, в который ринулась толпа. Андрею удалось застолбить сидячее место для друга, но Данила остался стоять.
— Нам вообще долго? — спросил он.
— Долго-долго. Сейчас приедем, дома плов с курой. Поешь, отдохни, помойся.
Обогнув Триумфальные Ворота, автобус вышел на Московский проспект. Это — сталинский ампир, то — неоклассика, вот типичный образец конструктивизма, здесь у нас райсовет, там Национальная Библиотека, недавно открылась, слева — Парк Победы непроницаемой стеной деревьев и кустарников. Слишком много информации валилось на Данилу, ещё неокрепшего с поезда.
— Увидимся с кем-нибудь из наших?
— Сегодня никак, — Андрей машинально посмотрел на часы. — Сейчас на работу часов до семи, потом дорога, потом обратно. Я буду мёртвый.
По негласной договоренности междугородние звонки совершались поочерёдно и не чаще раза в месяц. Данила заранее составлял список вопросов, чтобы ничего не упустить, однако разобраться в специфике работы Андрея так и не получилось. Уяснил он одно: Андрей отвечает за создание положительного образа местной компании, производящей мясные изделия — пишет какие-то тексты, участвует в организации публичных мероприятий. Он не стеснялся своей работы, но предпочитал не говорить о ней, всегда отмахивался: «Это временно».
Когда Андрей узнал, что Данила планирует поездку в Петербург, забеспокоился. Всякий раз напоминал, что его студия совсем крошечная, что нет места даже на надувной матрац и придётся спать в одной постели. Добавлял, что, конечно, страшно соскучился и будет рад наконец-то увидеться, но, может, не сейчас, может, чуть позже, во время отпуска. Однажды даже изъявил желание посетить Кемерово, заглянуть в альма-матер и, если Даниле надо, прихватит видеодиски, сколько угодно — чемодан-два — рискуя, безусловно, но, говорил Андрей, если и посадят, появится свободное время, экстравагантная строка в биографии, необычный опыт… «Откуда такая жертвенность?» — смеялся Данила. «Из нас двоих, если кто чего и добьётся, то ты, а там разберёмся, — серьёзно отвечал Андрей. — Перегорел я, дружище».
Такие разговоры заканчивались взаимными комплиментами, подбадриваниями, ностальгическими воспоминаниями и мечтаниями о грядущих триумфах.
Сейчас, наконец-то увидевшись, без посредничества привычных трубок и проводов беседу сложить не получалось, несмотря на усилия с обеих сторон. Автобус свернул на Ленинский проспект и размеренно шёл на Юго-Запад Петербурга, в сторону Финского Залива. Андрей смотрел в затылок Даниле, Данила смотрел в окно.
Здесь архитектура была уже другой, без какого-либо намёка на преемственность. Кирпичные многоэтажки замысловатой конфигурации постепенно упрощались в панельные дома, их сменяли совсем уже плоские уродцы, обшитые алюкобондом. В одном из таких домов жил Андрей. Больше года назад он отважился взять в этом районе студию в ипотеку, на выплаты по которой теперь уходит почти вся зарплата.
Из динамиков в потолке лифта играл полифонический «Вальс цветов» Чайковского, приятели ехали молча: то неловко смотрели по углам кабины, то ещё более неловко касались друг друга взглядами. Андрей позвякивал ключами в кармане куртки.
В квартире Данила удивлённо рассматривал каждый угол. Как было раньше?
Все праздники и пьянки проходили у Данилы: с девятнадцати лет он жил один в двухкомнатной квартире первого этажа. На третьем курсе, устав от общежития, Андрей перебрался к другу. Они курили в открытое окно, мечтали о создании авангардной рок-группы, хотели написать в соавторстве интеллектуальный роман. Едва ли не каждый вечер смотрели кино с одноголосным переводом на видеомагнитофоне под макароны по-флотски (это в светлые дни, чаще были макароны с картошкой), каждую ленту подвергали тщательному анализу. В этой же квартире на новогодней вечеринке Андрей сошёлся с будущей женой. Они по-студенчески скромно поженились; никому из гостей, коих было меньше дюжины, не пришло в голову хотя бы в загсе сделать памятное фото. Последний год жили втроём, совместно написали три дипломные работы, защитились на отлично. Но стоило молодожёнам переехать в большой город, и брак распался. «Из-за эстетических расхождений», — отшучивался Андрей.
Студия Андрея была совсем не похожа на жилище человека, с которым когда-то они делили мечты на двоих: богатый тёмный паркет, шоколадная плитка в прихожей и на кухне, глухие льняные шторы. Полный порядок, не такой, что наводят перед приездом гостей, а настоящий, постоянный. Нарезной хлеб на специально отведённой полочке, продукты в изобилии — свежие, пахнущие, — тоже рассортированы. «И этот человек защищался по Ерофееву?»
Данила же жил почти так же, как и в студенческие годы: как попало питался, курил прямо в комнате, теперь уже не открывая окна, и всё свободное время играл на гитаре. Иногда приходилось подрабатывать промоутером — маленькому бизнесу, видеопрокату в передней той же квартиры, с появлением скоростного интернета грозил крах, но Данила держался за него как мог, отгоняя тягостные мысли. Несколько лет назад, когда DVD-формат вытеснил VHS, Даниле пришлось снести на свалку десяток коробок с видеокассетами и жить в предчувствии второго подобного события было бы невыносимо.
— У нас плотный завтрак сегодня, — сказал Андрей и поставил на стол блюдо. Из-под золотистого риса, приправленного пряным иранским шафраном, выглядывали кусочки белого мяса, зубчики чеснока и мелкая соломка моркови.
Данила ел с большим аппетитом, прихлёбывая чай, Андрей поглядывал на него и внутренне улыбался.
— Так, всё, я побежал, — вставая из-за стола, сказал Андрей. — Накладывай ещё, потом в холодильник.
Данила поднялся вслед за товарищем и протянул руку, но Андрей не заметил жест, точнее, заметил не вовремя, и уже не сам жест, а неладную попытку его скрыть. Андрей, тоже не самым натуральным образом, положил ладонь на плечо Данилы и продолжил инструкции.
— Проветривай тут. Духота постоянная — воздух не цирку… не цир-ку-ри… — он наигранно запнулся, — в общем, не двигается! Полотенце в ванной. Что ещё? Постель сейчас достану. Диван раскладывается вообще-то, но я обычно так. Ну, если девочку привожу…
— Ну да, ну да…
Прощаться не стали. На пороге в шутку перебросились парой-тройкой лёгких ударов, отчего у обоих, у Данилы уж точно, поднялось настроение.
Не раздеваясь и не расправляя постель, Данила лёг на диван и проспал до обеда. Сон выдался беспокойным. Проснувшись после такого, можно обнаружить себя насекомым[2].
Покурить на балконе не удалось — пепельницы нигде не было, а стряхивать пепел на улицу мешала москитная сетка, с кофеваркой разобраться не получилось, так ещё и закрылся в туалете — встроенный в ручку замок не то заклинило, не то открывался он как-то иначе, словом, пришлось отвинтить его маникюрными ножницами, благо они нашлись тут же. Собрался и вышел, разобранный механизм оставил в коридоре на полу.
Лицензионные диски стали обходиться слишком дорого, откровенные пиратки, по пять фильмов на диске, брали неохотно. Одно время удавалось и в Кемерове раздобыть товар нужного качества, но каналы быстро закрылись: двух знакомых почти посадили.
На площади у спуска в метро стоял цветочный магазин, под кондиционером которого образовалась лужа. Из лужи торчала тушка голубя, так причудливо утоляющего жажду. Минуя турникеты, Данила достал из бумажника сложенный вчетверо листок, взглянул ещё раз на адреса. Теперь эти таинственные названия обретали смысл, а скоро и вовсе обрастут каменной плотью — одна точка на Лиговском, другая на Удельной — четвёртая и вторая линии.
Вагон сильно болтало, у Данилы с непривычки заложило уши. Оглянулся на пассажиров: действительно ничего не чувствуют или не подают вида? Переход к поездам четвёртой линии. Люди, много людей… У всех одинаково равнодушные и сухие лица, почти у всех в руках книги или газеты.
Собирая сумку в Петербург, Данила представлял, как в первый же день случайно повстречает какую-нибудь знаменитость — кого-нибудь из «Улиц разбитых фонарей» или, например, Боярского, и эти фантазии разыгрывались на фоне открыточных пейзажей: ну, Зимнего дворца там, ну, Казанского собора, ну, какого-то другого, однако непременно типично питерского пейзажа под открытым небом, поэтому, когда в подземном переходе, месте, не соответствующем ожиданиям, появилась знакомая фигура, он оказался вдвойне не готов признать в приближающемся человеке популярного музыканта. Сначала Данила подумал, что видит перед собой старого давно забытого соседа, и только разулыбавшись и едва не раскинув для объятий руки, сообразил, что надвигается на Бориса Гребенщикова.Ещё бы! Видеть этого человека, пускай только на экране, Данила привык с самого детства. Тот на улыбку узнавания ответил ровно такой же улыбкой узнавания, почтенно поклонился, но, разумеется, не обронил ни слова.
Пройти на Боровую, там во дворы. Извините, не подскажете?.. Город встретил не каким-нибудь боярским-тысяча-чертей, а кумиром юности, случается ведь такое… Так, тут в арку. А если бы не приехал? Но не приехать не мог: переплачивать за транспортировку, подставлять людей, да и не соглашается теперь никто.
О, «Аудио-Видео» — то что нужно.
Данила потоптался у парадной, плюнул в лужу, расстегнул куртку и толкнул деревянную дверь. Упор. Эх, написано же — «на себя»…
В ближайшем ко входу углу, между окном и первой полкой с дисками, спала бабка, вся в чёрном с головы до пят, подмышкой навалившись на невысокую спинку венского стула. За прилавком стоял, неспокойно переминаясь с ноги на ногу, неопрятный мужчина среднего возраста. Он поднял на Данилу глаза и кивком поприветствовал. Небольшая дырка у растянутого ворота светлой майки приятельски подмигивала при каждом телодвижении.
— Что интересует?
— Я много возьму. У вас будет сумка?
— Вы от кого-то конкретного?
— Да, как бы, да… — Данила попытался вспомнить обстоятельства, при которых он узнал об этом месте, и имя человека, про это место рассказавшего, но от внезапности вопроса всё выскочило из головы. Затянувшееся молчание, подозрение на лице собеседника. Сказал первое, что пришло на ум: — Борис Борисыч.
— Ага, хорошо. На склад пройдёмте.
Складом оказалась тесная комната без окон — металлические полки с дисками в цветастых упаковках, таинственные коробки внушительных размеров вдоль дальней стены.
— Первая цифра — цена за штуку, вторая — количество экземпляров на складе, — сообщил продавец, указывая на бумажные вкладыши под плёнкой упаковки.
Фильмы были рассортированы по жанрам, годам выпуска и, видимо, по популярности. Во всяком случае, проступала какая-то третья логика.
С собой у Данилы было семь тысяч, в квартире Андрея осталось ещё пять, вопрос был только в том, закупаться ли тут на все деньги или располовинить и заглянуть на Удельную сегодня же.
Продавец поставил у ног Данилы старый кожаный чемодан, нутро которого почему-то источало резкий запах мочи и разложения.
«Отечественную комедию про пьяные безумства — для тех, кто уже не в состоянии пить и безумствовать, “Последнего Адама” спрашивали, ужастики всегда в спросе…» — бормотал вполголоса, а вернее — мог бы бормотать Данила, если бы имел такую привычку[3]. Он ощущал себя не то Дедом Морозом, не то отцом из сказки «Аленький цветочек»; чемодан аккуратно заполнялся пластиковыми боксами. Продавец стоял поодаль, делая пометки в тетради сточенным карандашом.
— Шесть восемьсот восемьдесят, минус скидон от Борисборисыча… итого: шесть с половиной, — с важным видом сообщил продавец и почесал блестящий нос кончиком карандаша, на носу осталось весьма заметное серое пятно. — Мишура нужна за две сотни?
— Это что?
— Ну, книжки, газеты, тряпьё — выложить сверху. Вдруг остановят.
— Нет, спасибо, — сказал Данила, отсчитывая нужную сумму.
Данила всегда с удовольствием расставался с деньгами, если расходовались они на книги, кино или музыку; пускай и половину этих фильмов он бы не стал смотреть даже под страхом смерти, но ведь кому-то и такое кино приносит радость, значит, оно имеет место… впрочем, причинно-следственная связь…
Не дали Даниле додумать[4] эту сладкую, интересную мысль, уводящую куда-то в глубины — оглушили пронзительным свистом в самое ухо. Данила шарахнулся в сторону, потерял равновесие, и тут же чьи-то руки умело, почти ласково, сложили его лицом в пол.
— Леж-ж-жать! — раздался над ним строгий беззлобный голос: с такой интонацией прихлопывают таракана, не первого и не последнего за сезон — очередного. С полминуты Данила держался на локтях как одеревеневший и смотрел перед собой на чёрную от пыли жвачку, прилипшую к кафельной плитке, затем как-то внезапно в нём проснулась несвоевременная брезгливость, и он двинулся от жвачки подальше.
— Куд-да пополз?! — рядом с головой Данилы топнула нога в лакированной туфле. Вдоль серой брючины тянулась красная змейка лампаса. «Попал». Боковым зрением Данила увидел продавца, который, как оказалось, тоже прилёг неподалеку без какого-либо воздействия со стороны стража порядка.
Милиционер беззастенчиво залез в каждый Данилин карман, как в свои, нашёл паспорт и, судя по сосредоточенному пыхтению и шороху страниц, принялся внимательно его изучать. Обычно опытному человеку хватает полминуты, чтобы извлечь из этой красной книжечки всю необходимую информацию, но этот отчего-то медлил.
— Ошибки нет. Значится, Данила, ты у нас из Кемег-гова? — милиционер озадаченно картавил. — Давно в Питеге?
— Первый день.
— Пегвый день… Вот вы все сюда пгётесь, пгеступность гастёт, уговень жизни падает, погода погтится, а отвечать кто будет?
— Погода-то тут при чём?
— Ну, смотги. Ты в Питеге только с утга, да? А углекислого газа выделить успел литгов шесть. Тем же поездом пгибыло ещё человек шестьсот — это уже тги с половиной тысячи литгов. Пгодолжать?
— Не надо.
— А отвечать, спгашиваю, кто будет?
— Кто?
— Ты. Вставай, чего газлёгся.
— А мне вставать? — с насмешкой в голосе вмешался продавец.
— Ты вообще, как я посмотрю, сам себе режиссёр: и следователь, и задержанный! — милиционер произнёс это с превосходной артикуляцией, будто на одну реплику избавился от дефекта речи. Данила насторожился.
— Вот видите, Данила, вы в нашей компании всего ничего, а уже газдог, путаница, погода опять же погтится на глазах. А что будет, когда вы надумаете здесь обосноваться? Вот и как нам не взяться за вилы?
— Вы меня арестовываете?
— А оно тебе надо? Давай так, я изымаю весь товаг, даже не заглядывая, а ты иди куда шёл.
— Как изымаете? Я ведь заплатил…
— Хогошо, давай составлять пготокол задегжания, — милиционер глупо улыбнулся, придвинул ногой кожаный чемодан, для виду потянулся к замку, но остановил движение. — Только я заганее знаю, что обнагужу там: экстгемистские фильмы, гелигиозные пгоповеди какой-нибудь людоедской секты, детскую погноггафию, угадал?
— Нет!
— А я не тебя спгашиваю. Всё верно? — милиционер обратился к торговцу, и снова Данила услышал его звонкую ясную «р».
— Ве-е-ерно! Хе-хе.
Милиционер подошёл вплотную, словно намеревался своим выдающимся пузом вжать живот Данилы в позвоночник.
— Думаешь, твои чистые зенки собьют с толку опытного следака?
По всему выходило, что эти двое — милиционер и торговец — разыгрывают сценку с задержанием не в первый раз, а возможно, такое количество раз, что милиционер уже стал в шутку картавить ради разнообразия. Данила разомкнул губы, не зная, что вырвется в пространство: оскорбление, воззвание к справедливости, обличительная тирада, жалобный стон или совершеннейшая тарабарщина непредсказуемой интонации, но милиционер его опередил.
— Даже не думайте здесь кгичать! — процедил он, оборачиваясь на спящую бабку.
— Да, — подхватил продавец, — ещё не время её будить!
Данила не просто растерялся, а опешил. Почему сон какой-то старухи должен заботить его больше собственных сбережений? Почему в этой бессмыслице, судя по изменившимся лицам собеседников, стоит видеть смертельную угрозу? А в лицах действительно произошли пугающие перемены. Глаза милиционера, вперившиеся в Данилу, хоть и выражали свирепое отупение, но намокли, глаза продавца — бессмысленно блуждающие туда-сюда — остановились и тоже, Данила готов был поклясться, увлажнились, да и нижние веки самого Данилы не то от страха, не то от усталости, но больше, конечно, от обиды налились предательской жидкостью. Он попытался кивнуть, мол, сейчас специально и разбужу, но кадык от изумления так выступил вперёд, что кивок не получился.
— Устроили не пойми что, — переборол оцепенение Данила и с усилием вытеснил страх отвращением и брезгливостью. Он оглядел собеседников и побрёл к выходу. Открыв наружную дверь, взглянул на чемодан, как на родного друга, с которым навсегда расстаётся, и робко вышел во двор. За время, что Данила провёл в прокате, тучи наглухо заволокли небо, Данила уразумел в этом нескрываемый укор.
Шёл мелкий дождь. Данила глазел по сторонам и ничего не узнавал, словно и не был тут час назад.
Противный мелкий дождь стучал так: тук-тук-тук, то по макушке, то по плечам, но никак не так, как мог. Как бы испытывая терпение. Тук-тук да цок-цок, порой и кап-кап, но это когда как[5].
Мелкий и, как и всё мелкое, противный дождь, даже не дождь, а дождик, всё шёл, и не думать о нём, не вслушиваться, как он покрапывает, не чувствовать, как щемится под одежду, было невозможно.
Цок-цок. Лицо Данилы исказилось от злости: какой подлый наглый дождь! В Кемерове, например, дождь капает, бывает что и тарабанит, но чтобы цокать! Смутные подозрения не успели оформиться, как факт обнаружил сам себя: дождь нарочно звучал так странно, чтобы Данила не услышал, как сзади на него мчится лошадь. В последний миг он успел отпрыгнуть, но, неудачно наскочив на поребрик, оказался в луже. Данила корчился от боли и сквозь прищур пытался разглядеть удаляющееся животное с лихим наездником в костюме Петра Первого: в зелёном камзоле с чёрной треуголкой.
— Эх вы, осторожнее надо быть! — сказал худощавый высокий мужчина в прохудившемся коверкотовом пальто, поднимая Данилу из лужи.
— Нам с вами надобно поговорить, — продолжил он, — но, как я понимаю, сейчас говорить со мной вы не станете, верно?
— О чём нам разговаривать? — возмутился Данила и осмотрел свои потемневшие от влаги штаны.
— Так я и думал. Что же, встретимся через час на Сенной. У табачной лавки, договорились?
— Нет, — сказал Данила.
Мужчина в пальто простодушно улыбнулся, потом нахмурился, достал из кармана курительную трубку и зашагал прочь не попрощавшись. Так и сказал: «Не прощаюсь!» Всё оставшееся время Данила чувствовал на себе чей-то взгляд и, наученный шпионскими фильмами, увеличивал скорость ходьбы, резко останавливался, оборачивался, внезапно менял направление, пока окончательно не потерялся.
Неожиданно для себя Данила снова оказался на Лиговском проспекте. Манящая «М» метрополитена. На эскалаторе он не сразу заметил, что вставать принято у правого поручня, уступая левую сторону тем, кто торопится. Люди, возмущённо фыркая, с трудом протискивались между Данилой и его неподвижным попутчиком. «Как в игольное ушко!» — сказал лысый мужчина с жировыми складками на шее и разве что не плюнул от раздражения.
На перроне женщина с лицом алкоголической наружности ходила от колонны к колонне, что-то приговаривая. В руках она держала табличку с рукописным текстом «Помогите на операцию ребёночку», но, приблизившись к Даниле, сказала:
— У вас чистые глаза, не хочу вас обманывать. Дайте на опохмел.
Данила пожертвовал червонец за честность.
В вагон постоянно врывались то фокусники, то музыканты, но пассажиры никак не реагировали на происходящее. Казалось, если на одной из станций влетит розовый слон и присядет на скамью, никто и не подумает оторваться от чтения. «Видимо, ко всему можно привыкнуть…»
Вопреки намеченному, Данила действительно оказался на Сенной площади. «Станция “Садовая”, переход к поездам второй линии», — раздалось в вагоне из динамиков. «Ты прозевал “Достоевскую” и переход к поездам первой линии», — раздалось у Данилы в голове. Казалось бы, пересеки платформу и сядь в поезд обратного направления, но Данила рассудил так: раз дел на сегодня всё равно не осталось, а возвращаться домой раньше Андрея нет смысла, почему бы не подыграть мужчине в пальто ради того хотя бы, чтобы убедиться, что он бредит?
Делать было нечего, а есть хотелось. Пельменную не пришлось долго искать, а вот самих пельменей там не оказалось, Данила согласился на тушёные овощи с картофельным пюре. Сырые брюки липли к телу, это сильно отвлекало от вкуса пищи, мешало его различать.
Как приятно выкурить сигарету сразу после еды! Эта радость доступна далеко не каждому, а вот Данила, не успев ещё разделаться с обедом, обыкновенно уже предвкушал эти сладостные минуты и бессознательно потирал средний палец об указательный. Каково же было его огорчение, когда, выйдя на улицу, в кармане брюк он нащупал насквозь мокрый коробок спичек! Пачки сигарет и вовсе не оказалось — выпала, значит.
«Сколько же я просидел в этой луже, пока меня не подняли? Мужчина в пальто…»
Стало понятно, что разговора с этим человеком не избежать. Табачная лавка нашлась сразу.
— Как жаль, что вы не курите трубку, — раздалось откуда-то сзади, когда Данила, согнувшийся у оконца, искал свою марку. — Я бы угостил вас отменным табаком! Ей-богу жаль!
Мужчина в коверкотовом пальто хитро улыбался, выпуская дым ноздрями. Данила рассчитался за сигареты и новую зажигалку, непригодный спичечный коробок отправил в урну. На пальцах остались ощутимые, но еле заметные коричневые следы размокшей фосфорной намазки.
— Вы хотели поговорить, и вот я здесь, — сказал без улыбки Данила, распечатывая пачку. — То есть вы это как-то предвидели или даже…
— Я всего-навсего отмечаю вполне очевидные связи, — вальяжно жестикулируя, произнёс человек. Взгляд его медленно переменился и соскочил с Данилы куда-то в сторону. — На Сенной пахнет шавермой и безумием, не находите?
Краем глаза Данила увидел мужчину со сковородой на голове. Кажется, что-то ещё в его облике было не в порядке, но разглядывать было неловко. Данила по привычке перевернул первую сигарету фильтром вниз — на удачу, достал вторую и поместил меж губ.
— Пожалуйста, не курите при мне эту дрянь, — произнёс незнакомец и, не дав опомниться и возразить, снова заговорил. — Сегодня вас преследует невезение, но это вполне нормально для первого дня в новом городе. Уже завтра вы вернёте своё и прихватите сверху, обещаю. А вам Петербург не нравится?
— Как вы сказали? — замялся Данила, уперев взгляд в здание торгового комплекса, и повторил вопрос, смягчив его. — Нравится ли мне Петербург?
— Всем приезжим тут нравится, а вам, значит, нет? Но могу вас понять. Меня тоже удручает lawn mullet Петербурга, и вместе с тем — такая стилистическая несообразность. Одно вырастает поверх другого, сбивает масштаб, дезориентирует. И всё ветхое, шаткое, в любую секунду на голову может упасть кирпич. Вы ведь заметили минуту назад мужчину со сковородой на голове? Вероятно, то был человек глубокого посвящения. Но нужно привыкнуть, фигурально говоря, переродиться… Вы ведь сюда насовсем?
— Да как-то не думал…
— А чего думать? Все прелести жизни в столице без столичной суеты. А в Кемерове только химия, уголь да пыль. Я сам оттуда, знаю, о чём говорю.
Данила смутился. Не иначе как двое из проката и этот — третий — были сообщниками. Но зачем же он так старательно изображает из себя духовидца?
— Погодите! Не спорю, понять, что я приезжий и даже угадать, что в городе я первый день, — возможно, но откуда вы знаете, что я из Кемерова? Разве это написано у меня на лбу?
— Написано, да не на лбу, — рассмеялся мужчина. — Единственное, мой друг, о чём я вас прошу, — не заблуждайтесь о природе моей персоны. Повторяю, считываю я лишь вполне поверхностные детали, доступные любому внимательному взору. И вы, находясь здесь ещё какое-то время, начнёте кое-что понимать. Qui habet aures audiendi, так сказать, да слышит. На сегодня всё.
Человек в коверкотовом пальто сделал жест невидимой шляпой и торопливо удалился, оставив неподъёмное количество вопросов и самых невероятных предположений.
В метро перед эскалатором была безумная толкотня, в вагоне — подавно. Люди разбредались из центра по домам — в спальные районы. «Тесно, как в утробе. Поди разберись: зачат или проглочен». Не заметил Данила ни одной симпатичной девицы, на которой мог отдохнуть взглядом, ни одного прекрасного изгиба. В расстроенных чувствах он вышел на Ленинский проспект.
Худосочный субъект с неприятным запахом изо рта, оказалось, прижимался к Даниле усерднее остальных неспроста. После всех неприятностей и передряг на свежем воздухе хотелось наконец-таки закурить, но рука не обнаружила заветную пачку в кармане. «Спёр целую, непочатую…» Но нет, эта мнительность до добра не доведёт. Выпала, как и множество раз прежде. Однако, конечно, никогда ещё не случалось такое дважды за день.
Андрей, вероятно, задерживался. В квартире было душно, темно и тихо. Энергосберегающая лампа в прихожей разгоралась так медленно, что Данила разулся, не дождавшись пока станет хоть сколько-нибудь светло, и снова стукнул по выключателю. Видимо, в этом и заключается особый метод сбережения энергии. Весьма иронично иметь такую лампу в прихожей, ведь как раз таки прихожая…
Не удалось додумать эту приятную мысль, которая, не сложившись до конца, уже норовила быть высказанной с лёгкой усмешкой, когда на пороге покажется друг, — боль, всегда такая острая в неожиданности, пронзила Данилу от пяток до зубов. В глухой темноте он наступил на развинченную дверную ручку, которую сам же и оставил на полу несколькими часами ранее. Наступил так неудачно, что порвал носок, но сил на вопль или хотя бы досадливый матерок просто не осталось. «Как грустно быть идиотом!»
Ещё одна дурная новость не преминула обозначиться неприятным запахом с кухни. В голове киноштампом зазвучали слова: «Не забудь поставить плов в холодильник», но зазвучали они не собственным внутренним голосом и даже не голосом Андрея, а насмешливо-серьёзным голосом сумасшедшего с трубкой.
Данила огляделся. В квартире по-прежнему было темно и тихо, казан с пловом, стоявший на плите, напоминал шляпу-котелок с опарышами, а тухлый запах только усиливал это сближение. Как в бреду Данила схватился за загнутые поля шляпы и переместил её со всем содержимым в холодильник.
На мгновение показалось, что если прямо сейчас заснуть, усилием воли можно проснуться шестью часами раньше или же вообще проснуться в поезде. Да, в поезде даже лучше! Переиграть день по-новому, не встретить никогда этих странных людей…
За дверью послышались шаги, потом поворот ключа. Вскоре лампа в прихожей снова начала свой многострадальный разбег. Когда Андрей разулся и в комнате стало почти светло (прошло не меньше минуты), Данила увидел на лице друга гримасу глубочайшего страдания, приправленного не то обидой, не то стыдом с проступающим недоумением.
— Пропал? — без приветствий заговорил Андрей, проходя в комнату.
— Ну, запах какой-то странный, да. Я достал его сейчас, хотел поесть, но… передумал… — Даниле было совестно обманывать в первый же день, но не съедать же было… да и не выбрасывать. А вдруг действительно показалось? После такого-то дня всё что угодно может почудиться. — Ты достань, а? Может, другое что испортилось?
— За день пропал, что ли? Да что же за пакость такая?! — выдавил Андрей, разглядывая казанок и вытягивая вперёд нос. Смотреть на него было больно. — Никогда такого… впервые такое…
Данила хотел признаться, но не набрался смелости. Андрей распахнул окно, устало уронил тело на стул, понюхал блюдо ещё раз и так и остался сидеть некоторое время. Потом он рассеянно перевёл взгляд в коридор, вспомнив, по всей видимости, что заметил там — на полу — разобранный механизм дверной ручки.
— Блин! Я днём закрылся зачем-то, а твой замок… Сейчас, секунду, — дёрнулся с места Данила.
— Да хрен с ним.
— Нет, я сейчас всё…
— Оставь, говорю тебе, — спокойно, но твёрдо оборвал Андрей.
В квартире снова стало тихо. Мучительно тихо. Данила не решался заговорить, Андрей же и не думал об этом[6]. Его полностью поглотила загадка пропавшего плова. Когда Андрей добрался до таких глубин, что обдумывал возможность участия домового в этом злодействе, за стеной раздался визг соседской дрели. «Полвосьмого, самое время». Напряжение спало и оба облегчённо вздохнули.
— Да хрен с этим пловом! — торжественно воскликнул Андрей. — Будем жрать макароны!
За ужином Данила жаловался на тяжёлый несчастливый день, пересказывал всё приключившееся с ним, только о незнакомце в пальто решил умолчать: уж слишком неправдоподобной была его фигура, даже на фоне всего остального. Тем более, услышав о нём, Андрей мог заподозрить Данилу в сочинительстве, и не праздном, а с каким-нибудь корыстным умыслом. Дружба дружбой, но надо понимать, что оба они изменились с университетской поры. Хоть заново знакомься.
На первом курсе Данила и Андрей как будто не замечали друг друга. Мальчишек на факультете и без того было не слишком много, так ещё добрая их половина не проявляла способностей к учёбе и заинтересованности ею. Данила и Андрей относились к другой половине, но сходиться не спешили.
Осенью девяносто восьмого отец Данилы пропал без вести. Поползли слухи. Через неделю каждый на факультете знал, что у мальчика со второго курса, странноватого, но даже вроде как жизнерадостного, отец исчез после конфликта с бандитами, мать тяжело больна, родственники все сплошь с придурью, а друзей нет. Данила знал, что разговоры шли в первую очередь от педагогов, но ему сложно было что-то предпринять.Ещё сложнее было привыкнуть к пытливым взглядам.
Данила курил на межэтажной площадке пожарной лестницы, когда Андрей впервые к нему обратился. Сначала он нерешительно остановился рядом, похлопал себя по пустым карманам, изобразил удивление. Затем попросил сигарету, взял её как-то неправильно, по-женски, своей зажигалки у него тоже не нашлось. Потом, прикурив, задал какой-то общий вопрос, за которым последовал второй и третий. Так и разговорились. Только спустя несколько месяцев Данила сообщил новому другу, что тот неправильно курит — не в затяг, и научил как правильно.
За Андреем в жизнь Данилы пришла большая компания. Его мать не могла и подумать, сколько людей придёт провожать её в последний путь.
— Ты всё один да один? — спросил Андрей, оторвавшись от телевизора. Он положил вилку на край тарелки, взял в руки пульт и уменьшил громкость.
— Свадьба — дело такое… — сказал Данила, пережёвывая пищу. — Не хочу развестись через год, как некоторые.
— Да я ведь не о свадьбе.
— Я знаю.
По телевизору шли новости.
«В Санкт-Петербурге и области действует штормовое предупреждение. В настоящее время в регионе порывы ветра достигают…»
Андрей прибавил звук.
«Уже к полуночи пятницы ожидается, что уровень воды в Неве превысит нулевую отметку на сто шестьдесят — сто восемьдесят сантиметров. К пятнадцати часам вода в Неве может подняться до двухсот десяти — двухсот сорока сантиметров. При этом критический уровень…»
— Ой, не нравится мне это, — сказал Андрей.
От чая Данила отказался. Он спросил, почему бы не выпить старым друзьям чего-нибудь покрепче, отметить встречу хотя бы символически. «В среду?» — удивился Андрей[7].
— Ты не расстраивайся, что сегодня так. Помнишь ведь, всё должно идти медленно и неправильно.
— Что-то знакомое. Откуда?
— Эх ты, двоечник.
— Вы здесь все культурные, читающие, в метро все с книжками, городские сумасшедшие по латыни ботают. Чёрт-те что.
— Ты в книжки эти заглядывал? Чтиво. Лучше ничего не читать, чем такое, — Андрей рассмеялся, — вот как я!
После того, как стол был прибран, посуда вымыта, а постель разложена, Андрей, выпадая из задумчивости, произнёс:
— Я тут что подумал. Относительно мента. Существует такое местное поверье, что внутренний голос начинает картавить, если человек сознательно идёт на смертный грех, — он нахмурился, приложил указательный палец к подбородку, как бы разглядывая собственную мысль, которая, не будучи высказанной, казалась куда разумней. — Ну, это внутренний, а у него, так сказать, внешний, так что не знаю, насколько это уместно.
Когда Андрей отлучился в уборную, Данила снова с болью на сердце вспомнил, что привёл в негодность дверную ручку. Он вышел в коридор, чтобы поднять её, показать готовность всё исправить, починить, как только товарищ освободит комнату. Но ничего на полу не оказалось, а из уборной раздался слабый звон. Данила догадался, что механизм был отправлен в урну. Это казалось чудачеством, совсем не вязалось с тем укладом, который, по мнению Данилы, существовал в квартире.
— Я же забыл сказать самое интересное, — уже засыпая, спохватился Данила. — Я же Гребенщикова видел сегодня, представляешь?! Даже за бороду мог подёргать!
— Надо же, какое совпадение, — Андрей поднялся на локте. — А я ведь тоже его встретил, когда переехал сюда. А он-то, случаем, не картавил?
— Да нет, молча прошёл.
— Эх, Борис Борисович…
Борисборисыч…
В голове уже шумели первые обитатели сна: «…вы должны знать своё место!..» — пронёсся над головой незнакомый голос; «…девочку не желаете?..» — ещё чей-то голос; «…и мама была права…» — дрожащий мужской голос нараспев. Появилась картинка, яркая и агрессивная, завертелась… Какие-то туманные мысли порывались выбиться на поверхность сознания, но их заволакивало снами, что мелькали наперебой, врезаясь друг в друга, дезориентируя, сбивая масштаб, пока Данила окончательно в них не потерялся.
День второй [8]
Сон выдался беспокойным. Проснувшись лицом в подушке, Данила ещё какое-то время не решался от неё отлипнуть — было странное ощущение, что ночью во время сна он потерял какой-то орган: не то нос, не то ухо; вероятно, это было последствие неудобного положения. На всякий случай ощупав лицо, Данила начал свой день.
Время близилось к обеду. Данила твёрдо решил вторым этим днём исправить все давешние неудачи, подружиться с городом, попытаться понять его. Возможно, даже удастся вернуть свои деньги, отчего же нет?
Начать положил он с кофеварки — примитивная машина, созданная, чтобы постигаться интуитивно. Хоть напиток и получился в конечном итоге несъедобным (не сменил спитый кофе на свежий), Данила счёл задачу выполненной, добавил в мутный кипяток ложку растворимого, который хранился у Андрея про запас, и вышел с горячей кружкой на балкон.
Странно всё-таки переехать в Петербург, а жить в таком районе, который не имеет ничего общего с городом. Наверное, первое время выбираешься в центр — прогуляться вдоль каналов, заглянуть в парк, выкурить сигаретку, сидя на лавочке под могучим деревом… Выкурить сигаретку. Табачок. Вкусный табачок. Запах на пальцах. Жёлтые от никотина пальцы. Выкурить сигаретку стоя с кружкой кофе на балконе. Под балконом дети собирают бычки. Выкурить жёлтые пальцы детей сидя на корточках под могучим балконом. «Срочно покурить, дурею совсем».
Вкусно отобедав вчерашними макаронами, которые Андрей заботливо выложил на тарелку, припорошил тёртым сыром и украсил веточкой петрушки, Данила достал из внутреннего кармана сумки оставшиеся деньги, пересчитал их и поместил в бумажник. «Шесть тысяч, главное, сегодня не дать маху».
В продовольственном магазине кассирша с недоверием посмотрела на Данилу, когда он положил на ленту пачку сигарет и, уже пробив чек, попросила паспорт.
— Паспорт? Зачем вам паспорт? — засуетился Данила, ощупывая карманы.
— Вдруг вам нет восемнадцати…
— Ох, день начинается с комплиментов! — попытался отшутиться Данила.
— Паспорт, — продавщица была непреклонна.
— Сейчас, — с удвоенным усердием ощупывал карманы Данила, — «Был в этих же брюках, в этой ветровке»,— секунду…
— Паспорт, молодой человек, или на выход!
— Да повремените, чёрт, не видите, потерял, — по третьему кругу Данила залезал в каждый карман.
— Тогда гуляйте, — сказала продавщица и опустила пачку под прилавок.
На улице Данила продолжал бубнить: да куда же он делся… Не дай бог выпал. А мент? Отдал мне его вчера или нет? Сука, мент картавый. Отдал или нет?
«Вернёте своё и прихватите сверху», — раздался в голове голос сумасшедшего с трубкой. Теперь уже точно придётся ехать на Боровую. Наверняка мент там постоянно ошивается. Кормушку нашёл!
Спускаясь к платформе по эскалатору, Данила ощутил неприятный тёплый ветер, пахнущий машинным маслом: «Только что ушёл поезд, можно не торопиться», — подумал Данила и обрадовался этому замечанию — неплохо для второго дня в городе. Он прижался к правому поручню, слева спешно проносились люди.
В метро попутчики сосредоточенно и угрюмо вглядывались в серые листы книг, неторопливо и почти синхронно перелистывая страницу за страницей, как участники спиритического сеанса. «С покойничками разговаривают».
Медное громыхание колёс медленно и незаметно свернулось в ничто, зажёванное зловещим молчанием пассажиров. Вместе со звуком, казалось, сошли на нет и колебания — вагон скользил, едва покачиваясь, в отличие от двух соседних — через окна в торцах было видно, как их бросает в стороны. Изнутри самого себя Данила услышал первый приглушённый, но узнаваемый стук колёс. Тух. Следом второй, но уже громче. Ту-дух. Третий. Тух. И разом отовсюду. Тудух. Тух. Тудух. Тудух. Тудух — тудух — тудух— тудух…
С «Владимирской» на «Достоевскую», «Лиговский проспект», подземный переход. Бродяга что-то мычит, дёргает за рукав, достаёт измятую тетрадь в клетку. Беззубая пасть, невозможная вонь. «Подвойте потитать уам мои т-тихи». — «Нет, спасибо». Взгляд цепляется за коричневый обломок зуба, за желтоватую пену в уголках губ… «Моутим мы оба. И лиф на нами…» Коснулся! «Вейху, вытако ф-фаги оцца…» Убери руки! «Он медит ветеу и ноть тагами, И я не виду ео лица…» — «Замечательно, это вы сами? Я не знаю, чем могу помочь… Может…» — «Не тадаписест. Ест исо. Титяс. Дтугое вот: Я тутстую тядоый тей-то вгдяд, И тутстую ео худые пайтсы, Они меня т бумаги соскобьят И выдтяхнут в бетмеуное пдоттантво» — «Понятно». Возьми червонец. Чего, нет? Ты что делаешь? «Вы соображаете? Фу, а ну-ка! А ну пошёл отсюда!» Ублюдочная рожа…
Разъезжая. Как эти здания вообще стоят? Это тени, грязь или кровоподтёки? Господи, что я тут потерял? Нет, спасибо. Ладно, в урну. Извините, я не хотел. Поэт, чёрт возьми. Поэт в России больше не поэт. Больше не поёт. Красный, повернём. Это что? К чёрту. Коломенская, ага. Мёртвый голубь, дохлый голубь, грудь нараспашку. Подожрал кто. Останки сладки. Вороны. Во-ро-ны. Кар-кар. Кар-тавят. А это? Ну дают! А задницы в комнатах остались? Андрею: на Коломенской из фасада вырастают две лошадиные головы. Сами лошади, получается, замурованы в стену? А может, они подглядывают через порталы-червоточины из иных пространств? Боровая, о! В какую? Сюда? Да, это мы проходили, это нам задавали. Что такое? За мной? Нету. А будто есть. Во-от, арка. Во-о-от… Так, всё нормально. Хотя бы паспорт[9].
Дверь провалилась вглубь помещения от легчайшего толчка[10], будто только этого и ждала весь день; натёртый до блеска кафель, казалось, сам подставлялся под шаг.
Продавец в той же замызганной майке, с немытой головой, увидев Данилу, приосанился, заметно встрепенулся, но сделал вид, будто не узнал его. Венский стул у окна был пуст.
Вслед за Данилой вошла молодая пара, запально и раздражённо перешёптываясь. Данила огляделся, прошёл вдоль стеллажей с прокатными дисками, остановился под надписью «Зарубежные боевики», не глядя вытянул коробку, прикидывая, какую гадость можно выкинуть в случае чего, но диска внутри не оказалось. «…Я не говорю, что у тебя интеллект именно как у хлебушка, — услышал он голос парня, сорвавшийся с шёпота, — это была шутка». Заинтересованный таким поворотом подслушанного разговора, Данила уже приготовился подойти ближе к бранящимся, как у самого уха заговорил продавец.
— Могу чем-то помочь?
— А как вы сами думаете? — испуганно оборачиваясь, спросил Данила, но на последнем слове уже оправился и скомкал возмущённую мину.
— Я гадать должен? Понадоблюсь, позовёте, — произнёс продавец. Он бездумно улыбнулся, при этом один глаз его слегка скосился вбок, как бы наперёд просматривая маршрут.
— Нет уж, вы погодите! — Данила задержал его за штанину.
— Мне милицию вызвать? — отшатнулся продавец.
— Вызывайте! Дружка вашего вызывайте, он же, наверное, тут где-то и припрятался? А лучше дайте-ка мне телефон, я сам вызову! О, я вызову! Настоящую милицию! И всё им расскажу, что тут делается.
Из смежной комнатки, на двери которой висела табличка «Комната персонала», послышался вой оборотня в погонах: «Не пускай его ко мне, а то я за себя не гучаюсь!»[11]
— Вы здесь?! — Данила бросился к двери. — А ну, откройте! Ну-ка, быстро открывай, ментовская морда!
Торговец деловито отстранил рукой Данилу и, поковыряв ключом, открыл дверь, но тут же и скрылся в тёмной крохотной комнатушке, которая скорее походила на кладовую, чем на комнату персонала.
— Паспорт мой отдайте, вы! — Данила стукнул в дверь кулаком.
— Паспогт ваш больше не действителен, мы его изымаем!
— Как это недействителен?!
— Мы пририсовали вам усики! — с радостью в голосе ответил продавец из-за двери. — Теперь только замена!
Данила обошёл прилавок — возникла мысль забрать из кассы ровно ту сумму, которую оставил здесь вчера, но понимал, что вряд ли осмелится с ней уйти. По крайней мере, уйти тайком, прежде чем вернётся продавец, Данила никак бы не смог. Злобно потрясти деньгами, объявить, что забирает своё, да к тому же потребовать назад якобы испорченный паспорт — другое дело. Кассовый аппарат, стоявший на столе, сверкнул серебряной замочной скважиной. Ощупав его и удостоверившись, что до денег не добраться, Данила заглянул под стол и увидел кожаный чемодан, который вчера с такой любовью заполнял разного рода дисками. Толкнув его ногой и убедившись, что он не пуст, Данила дёрнул ручку и поволок добычу к входной двери. Молодые люди даже не взглянули на него, увлечённые друг другом.
— Да даже если и так, что здесь плохого? Говорят же, хлеб всему голова…
Чемодан был очень тяжёлым, ручка нещадно впивалась в ладонь, подминая кожу, оставляя на ней обескровленные белые пятна. Улицы путались, Данила ничего не узнавал, даже вернуться к исходной точке той же дорогой у него не выходило, и он всё кружил, как муравей в осином гнезде.
Лица коснулась первая капля дождя, неожиданно обильная, жирная, как плевок. Среди прохожих или же откуда-то из-за угла, из окна булочной, а может, сверху — с балкона жилого этажа (разобрать никак не удалось) — показались чьи-то глаза, угрожающие и вместе с тем равнодушные чьи-то глаза. Данила сменил руку, ухватил чемодан покрепче и ускорил шаг. Дождь усилился, а вскоре просто набросился со всех сторон. У Андрея наверняка был запасной зонт. Нет, зонт тут не помог бы. Но эти глаза.
Чемодан выскальзывал из мокрых ладоней, наскоро вытирать их об одежду уже не получалось: не отыскать было на себе ни единого сухого места, даже к подмышкам как-то пробралась влага. Данила свернул с Щербакова переулка в какой-то узенький проходец и встал под нависающую консоль здания; под ногами, казалось, остался последний во всём городе нетронутый дождём островок.
«То был не просто взгляд, — думал Данила, — не случайный взгляд случайного человека. Может ли беззубый со стихами и впрямь следить за мной?» Рядом с Данилой на островок примостился пожилой человек, мельком взглянул на чемодан и закурил. Ох, как хотелось одолжить сигаретку, но неловко — у старика… К тому же зажигалка снова где-то затерялась — обращаться дважды?.. Да и потом, принято ли тут благодарить за курево? ведь можно обидеть как молчанием, так и благодарностью[12]. Данила глубоко вдохнул дым чужой сигареты и ничего лучше не придумал, как скорее уйти.
— Простите, не подскажете, где метро?
— Так вы уже у метро. Обойдите здание, «Достоевская» это.
— Спасибо.
И всё же, какая дурость этот дождь! Но почему ты, великий мудрый город, поддерживаешь эти глупые выдумки? Коллективная вера твёрже самой реальности. Неужели эти скучающие поэтессы натащили сюда столько осадков? Или это пар от их вечного кофе? Или это дым от их… Не стоит... Вот и прячь теперь шмыгающий нос в «шарфе тумана»!
У автомата выдачи жетонов стоял металлический стенд с полками. На верхней перекладине помещалась пластиковая карточка с трафаретной надписью «Книгообмен», но все немногочисленные книги были, судя по корешкам, одинаковыми. Плешивый мужчина подошёл к стенду, многозначительно оглядел чемодан, который под взглядом, казалось, шатнулся, и выложил из портфеля ещё один экземпляр на полку. Дождавшись, пока мужчина отвернётся, Данила взял книгу.
«Поезд прибыл на Московский вокзал ранним утром…» — успел прочитать Данила, прежде чем застрял с чемоданом меж планок турникета. Ни вперёд не пройти, ни назад: металлическая пасть сомкнулась крепко. К нему поспешил озадаченный работник в чёрном кителе.
— Да помогите выбраться! — попросил Данила, выпустив из рук тонкую книжицу, она полетела на пол.
— Передайте свой чемоданчик сюда, — вытянул руку работник. Подойдя ближе, он пригнулся и всем телом подался назад.
— Просто отожмите турникет! — вне себя от нетерпения потребовал Данила. Потом смягчился: — Пожалуйста, нажмите там какую-нибудь кнопку.
До него вдруг стал доходить весь ужас сложившегося положения. Контрафактные диски в огромном количестве заполняют его чемодан, а он как ни в чём не бывало разгуливает по городу, заходит в метро, застревает, чёрт подери, в самом видном месте.
«Вестибюль, пару человек, будьте добры, — поднеся к лицу рацию, заговорил работник. — У нас противодействие как бы». Рот Данилы открылся в изумлении, а брови сбежали чуть ли не на макушку. «Какого чёрта?!»
— Простите, — обратился к нему работник слегка виновато. — У нас чрезвычайное положение. Ничего страшного, не бойтесь. Чемоданчик просто осмотрят. Не переживайте, вы заплатите за багаж и всё — поедете дальше.
Ужас нарастал: мало того что диски уж наверняка пиратские, но ведь Даниле совсем не известно их содержание. Вдруг там окажутся фильмы малость запрещённые, малость подсудные, например. Господи. Тяжёлый чей-то взгляд. Голова закружилась, и спустя мгновение Данила пришёл в себя уже на полу, растёкшийся под жёрновом турникета. Его худые пальцы!
Работник сам жутко перепугался и не знал, что делать; вызволяя Данилу, он оторопело приговаривал: «Только осмотрят и всего. Чемоданчик осмотрят, только и всего. Чемоданчик-то…»
Опираясь на помощника, Данила медленно встал, но, увидев двух стражей порядка, надвигающихся как судный день, схватил чемодан обеими руками и пустился в бег. Началась погоня.
Ноги. Ноги. Сучий чемодан. Сзади? Сзади! Не-а, не отдам. Снова — мокну. В лужах пузыри. Сзади? Сзади! Стало целых три. Суки, суки. Как бы не упасть. Праздник? Будет! Только не у вас. Чемодан — правая. Чемодан — левая. Эй, мадам, в сторону! Здорово — бегаю. Заборы, за-бо-о-ры. Прямо, левей! Суши сухари мне, апостол Андрей. На Коломенской кони в стену замурованы. Кони замурованы, а Даня зашнурованный. Бегут толстопузы? Бегут атлеты. Бегут, догоняют! Ой как пло-ох-о-о-о! Су-у-ука! А-а-а! Схватит. Сейчас. Вот сейчас. Прямо сейча-ас. Вот-вот. Хоп-хоп. Хвать-хвать. Мне конец, где? Упал! Надо же! Упал, паразит, других тормозит. В лужу? В лужу! Хлопец дюжий. Ноги. Ноги. Мокрые пятна. Бросить? Глупо. Скроюсь? Вряд ли[13]…
На Загородном проспекте с тротуара в тёмную арку Данилу рывком втянули чьи-то сильные руки, чёрная металлическая решётка звякнула перед лицом, милицейские пронеслись мимо, ничего не заметив. Данила покрутил головой, остановился, вглядываясь в лицо спасителя. Вчерашний сумасшедший.
— Сам ты сумасшедший! — притопнул человек в котелке и с комичной сердитостью оттопырил нижнюю челюсть. Затем расхохотался.
В недостаточном свете под кирпичной аркой лицо его показалось старее, чем было вчера. Еле различимая тень от округлых полей котелка провалилась в глубокие глазницы, отчего сами глаза показались плоскими. Усы жиденько рассеялись под носом, слегка поблёскивая в темноте. Неясно было, зачем такие усы остаются на лице, а не сбриваются сразу же, как только выступят на свет божий[14]. Одежда выдавала человека бедного, но утончённого, только чёрное пальто с меховым воротником — не то куница, не то козлик, не то другое какое животное — выбивалось вызывающей дороговизной и новизной, будто его минуту как сняли с манекена на Невском.
«Меня зовут Владислав. Всё правильно, с ударением на “и”. Отчества не надо». — «А я…» — «А вы Данила. Да-да, знаю. Вы удивляетесь? Вы ещё чему-то удивляетесь?! Сюда, Даня, — не бойтесь». — «Да-да. Простите…» — «Ничего страшного. Новое, между прочим. Ладно, ерунда». — «Прошу прощения, здесь ни черта не видно». — «Ерунда, не страшно. Побегали? Отдышитесь. Здесь не найдут. Сюда, пожалуйста, я придержу» — «Спасибо… Мы к вам?» — «Ко мне, совершенно верно. С чемоданом осторожнее. Тяжёлый, наверное? Ещё бы. Оставьте тут. Aprеs vous…»
В квартире Данила удивлённо рассматривал каждый угол, тревожно и как бы нехотя сознавая, что каждый угол, в свою очередь, удивлённо рассматривает его самого.
По всему было видно, что эта небольшая квартирка в центре Петербурга не знала гостей, — на каждом предмете отпечаталось одиночество. Это роднило квартиры Андрея и Владислава, других общих черт не было. Старый советский паркет «ёлочкой» крыт-перекрыт лаком и краской, которые протёрлись под письменным столом, у кресла и перед окном до самой древесины, а в менее исхоженных местах проступили слой сквозь слой. Но паркет — далеко не первое, на что визитёр обратит внимание, — сперва он заметит в прихожей жёлто-серые столбы[15] газет, которые возводились, судя по масштабам строительства, десятилетиями. Затем визитёр, привыкший к панельным комнатушкам, удивится высоте потолков. Паутине он не удивится — странно, если бы её не было с такими-то потолками, и вездесущая пыль уже вряд ли удивит человека, сообразившего, наконец, где оказался. Антикварные, раритетные, старинные вещи или же рухлядь, мусор, старый хлам — без видимого порядка и иерархии раскинулись по всем горизонтальным поверхностям, не занятым книгами. Самодельных книжных стеллажей не было только в кухонной зоне. В таких случаях хочется взять что-нибудь с полки для того хотя бы, чтобы узнать цвет стен. «Вероятно, — подумал Данила, — так живёт питерская интеллигенция». В гостиной у кресла, в которое Владислав усадил гостя, стояла акустическая гитара с бантом на грифе.
— Я принесу сюда чемодан, вы не против? — подавшись вперёд, спросил Данила.
— Ни в коем случае! — ответил Владислав и выставил вперёд ладонь, как бы требуя остаться в кресле. Сам же он придвинул стул и сел напротив. — Пожалуйста, не у меня дома.
— Вы думаете, там…
— Ничего я не думаю, — Владислав достал из кармана портсигар, вытянул папироску, не предлагая Даниле, закурил и продолжил. — Тут я должен произнести фразу, смысл которой сам не вполне понимаю. Она звучит так: «Если бить труп по морде, синяков не останется, но если синяки появились, то ждите удара в ответ». Это всё. Прошу прощения, я должен был это сказать…
Данила поглядел в потолок, будто призывая невидимых свидетелей разделить идиотизм услышанного, встал и протянул собеседнику руку.
— Спасибо, что спасли. Мне, наверное, пора.
Владислав от рукопожатия уклонился, зажал папиросу в зубах покрепче и опустил обе руки, нежно, но настойчиво, на плечи Данилы — вернул его в кресло.
— Я должен извиниться за вчерашнее, — сказал Владислав, стряхивая пепел в ладонь.
— Господи! Делайте что хотите, говорите что хотите, мне какое дело?
— Данила, послушайте… Я извиняюсь, потому что ко всем вашим страданиям имею самое непосредственное отношение.
— Я так подозреваю, вы ко всему сущему имеете отношение? Это называется «синдром бога».
— Знаете, я могу переубедить вас в две секунды. Например, могу пересказать всё, что случилось с вами вчера, но, боюсь, вы подумаете, что я следил. Однако я могу рассказать и то, что случится с вами сегодня.
— И завтра, и жену мне нагадать… Всё ясно, Владислав. Пожалуйста, пустите меня.
— Решительно нет! Скажем так, вчера я знал о вас ровно то, чем вы были вчера. Сегодня мне открывается чуть больше. Вот, возьмите эту гитару. Возьмите-возьмите. Я знаю, вы сразу обратили на неё внимание. Сыграйте что-нибудь, вы ведь гитарист. Ну же. Во-о-от.
Данила взял гитару: питерская «Арфа», потрёпанная и покусанная, но крепкая и — он проверил звучание — замечательно отстроена. Всё равно по привычке покрутил колки взад-вперёд, еле касаясь медных струн, и потом аккуратно, даже вкрадчиво провёл по ним правой ладонью, не задумываясь, взял аккорд и уже пустился было в импровизацию, но звук получился таким неожиданным, что инструмент едва не выпал из рук. С удивлением Данила обнаружил верные пальцы — мизинец, безымянный и средний — смещёнными на одну позицию вверх. Это было немыслимо. Такого не случалось никогда. В подпитии или помутнении он мог несвоевременно взять аккорд, недостаточно крепко зажать струны, чёрт с ним — съехать мимо лада доводилось, но это… Приоткрыв рот, Данила глядел на гриф — ни уже, ни шире обычного. Никогда такого… впервые такое…
Он взял другой аккорд и снова промазал.Ещё один, и снова пальцы оказались не в том положении. Как будто все гитары на свете прежде играли с ним в дурную игру: сами подставляли нужные струны, а теперь — эта «Арфа», перевязанная идиотским бантом, почему-то взбесилась, отказалась сотрудничать.
Медленно, проверяя каждое движение, Данила прижал три медные нити окаменевшими подушечками пальцев в самом простом и знакомом с детства аккорде и вдумчиво проиграл его. Разве может обыкновенная нота «до» звучать так казённо?
Всё происходящее в этом городе Данила ещё мог принять — с сомнениями, но поверить в эту насмехающуюся сюрреальность; теперь же последние исправные шестерёнки, привезённые из прежней жизни, остановились, надломились, посыпались в бездну ужаса. Казалось, ещё мгновение — и предметы в комнате повиснут в невесомости; обрушатся стены, стряхнув с себя присосавшиеся книги; страницы книг, скреплённые закаменевшим клеем, вырвутся — освободятся от насильственного соседства; столбы газет, сцементированные пылью, взорвутся, и этот взрыв отделит чёрные буквы от серой бумаги. Буквы-буквы-буквы. И вся жизнь — не кошмарное сновидение, а буквы-буквы-буквы, которым дела нет до смыслов, довлеющих над ними. Останутся только буквы — последнее целое, неделимое — истинный атом.
Владислав почёсывал левое ухо, покусывал правый ус, иронически улыбался, следя, как по тексту, за сменой гримас на лице Данилы.
Такая казённая нота «до»… Не меняя позиции пальцев, Данила, наперекор собственному желанию и музыкальной логике, проскользил по грифу до третьего лада и опустил правую кисть на струны. «Да, — услышал он собственные мысли, — подходит». Подходит, соответствует новому порядку вещей, уставших безмолвствовать, затеявших тихий, но слишком ощутимый бунт. Образы, скромно, но неотступно следовавшие за ним, теперь развернулись вдоль струн, как будто найдя выход из свёрнутых измерений.
— Достаточно! — вставая со стула, сказал Владислав. Он смял в руке потухший хабарик, положил его в карман и протянул руку. — Теперь уже вам действительно пора.
— И что мне теперь делать? — спросил Данила, пожимая испачканную пеплом ладонь.
— Я бы отправил вас куда-нибудь в Лисий Нос с такой добычей, — подмигнул Владислав, — но до Финляндского вам с чемоданом не добраться.
— Зачем мне чей-то нос? — вскипел гость, но едва с уст слетело последнее слово, Даниле стало не по себе. Предутренний сон не вспомнился, но тревога, очевидно, была связана именно с ним. Данила ещё раз оглядел книжные полки и в углу под потолком увидел, наконец, жёлтые глаза, вдавленные в голову каменной совы.
— Совершенно босховская штучка, не находите? Я подумал, что если принесу её домой, в жизни прибавится хоть немного разврата.
Владислав подошёл к столу, вытряхнул на него пепел из трубки, смахнул на пол, принялся набивать её табаком, говоря:
— Этот совёнок — моя находка. Какой-нибудь мальчишка выточил его из газоблока, раскрасил гуашью и подарил родителям. Я редко подбираю что-то с помойки, но тут не удержался. Правда, у него скололось крыло… Вы, кстати, попросились бы к Гребенщикову. Теперь-то готовы.
— Вы думаете, мы ещё?..
— Конечно! Он, как известно, проездной теперь купил. Носится по городу, выпрыгивает из-за кустов, народ смущает.
Перед прощанием Владислав вручил Даниле ключ от кладовой в соседней парадной, где посоветовал припрятать чемодан до отъезда. Угостить на дорогу папироской отказался: «Курильщик — сам себе могильщик».
Без тяжёлого груза и дорога казалась прямее, и прохожие доброжелательнее, и погода поправилась за компанию, не стала упрямствовать. Один добродушный киргиз даже проводил к станции «Пушкинской» — к «Достоевской» Данила бы добрался и сам, но, по понятным причинам, это было исключено.
Подземный зал был практически пуст. В конце его на белом постаменте сидел гипсовый белый Пушкин. Несколько человек стояли перед ним, как перед мироточащей скульптурой Спасителя. Данила подошёл ближе.
Курчавый и с баками, казалось бы, ничего необычного, но, приглядевшись, Данила явственно увидел, что растительность на голове и лице поэта — это не растительность вовсе, а маскирующиеся под неё белые черви, которые, наевшись, пытаются покинуть светлую голову классика. Черви разума. Лицо Пушкина выражало скуку и презрение, словно его запечатлели как раз в тот момент, когда какая-нибудь неразумная старушенция, теребя свежий номер «Современника», завершала затянувшийся восторженный отзыв стихотворением собственного сочинения. Из его слабых рук, казалось, вот-вот выпадет букет сирени, и выпадет не на пол, а на голову рыжебородому бомжу, беспечно сидящему в ногах поэта. Подняв взгляд на Данилу, бомж радостно вскочил и протянул кепку с мелочью. «Смотри, сколько!» — сказал он и приподнял картонку с лаконичной надписью: «На водку». Возможно, он приглашал к трапезе.
Данила изрядно перепугался на станции «Технологический институт» — ехал по красной ветке, а оказался на синей, — но в скором времени сообразил, как найти нужную платформу. Далее до «Удельной» добрался без особых происшествий. Из стены, замыкающей станцию, выступал барельеф: голова Ленина, чёрная, как меконий[16].
Солнечный свет, прямой и беззлобный, был неожиданностью. Небо, однако, оставалось совершенно белым, как будто умаявшийся ретушёр вырезал облака, опустил до предела яркость и забыл замостить на пустое место голубую растяжку градиента. «Может быть так, — задумался Данила, — что люди с дальтонизмом, рождённые в Петербурге, и не подозревают о своём недуге?» «Наверняка таких немало», — ответил себе он.
На площади у здания станции были заботливо установлены уличные туалеты, торец ближайшего поливал нетрезвый человек. Когда Данила проходил мимо, человек сказал: «Простите, я тут прячусь», кивая куда-то за туалет. На пятаке справа от входа в метро три милиционера беседовали с остановленной компанией. «Вы не имеете права!», «Не портьте вечер!», «Мы ведь не террористы!» — доносилось оттуда. Чтобы не искушать судьбу, Данила решил не задерживаться, хотя и чувствовал, что продолжение обещает быть интересным. Базарные бабки, торгующие чем-то несусветным, повскакивали с раскладных стульчиков и по очереди следили за происходящим, выглядывая из-за угла. «Смотри! Надо смотреть! На минуту отвернёшься, их уже поведут!» Зайдя за угол аптеки с великолепным названием «Ночь, Улица, Фонарь…», Данила почувствовал относительную безопасность и в последний раз взглянул на пьяненьких. Он увидел, как самая голосистая барышня утихла, невозмутимо повернулась (её личное время, вероятно, текло быстрее общечеловеческого) и попыталась куда-то утопать, взяв под руку случайного прохожего. Её вернули.
С внимательностью человека, задумавшего вести дневник, Данила разглядывал прохожих. Разные, очень разные люди. Как будто из разных эпох. И как многое написано на лицах! «Извините, у вас на лице написано».
В основном на Уделке торговали тем, что и выкинуть не жалко. Проходя вдоль полуимпровизированных палаток, Данила мысленно путешествовал по своему детству, по тем его уголкам, которые, казалось, навсегда завалены перестроечной и постперестроечной рухлядью. Пугач на пистонах вызвал к жизни одномоментно несколько воспоминаний, наслоившихся друг на друга, эти воспоминания были зелёно-жёлтыми, пахли гудроном и серой, ссыпались в папироску «беломорканала», целовали в щёку губами девочки, имя которой не разыскать в памяти без помощи гипнотизёра. Карманные магнитные шахматы, лежащие на полотенце перед улыбчивой женщиной с золотыми зубами, напомнили о затяжных партиях с отцом за право вести машину по просёлочной дороге; тут же вспомнились конкурсы на лучший рисунок за миску арахиса, соревнования по стрельбе в гнилые маслята из воздушки, главным конкурентом в которых был всё тот же отец. Модельки, значки, дальномерки, подстаканники, дисковые телефоны — все о чем-то напоминали, дёргали память, самовольно и беспорядочно переносили из детства в студенчество и обратно. Данила почти забыл, зачем забрёл на это кладбище ненужных вещей, пока снова не почувствовал на себе взгляд, всё такой же равнодушный и угрожающий, но, что странно, поторапливающий, подталкивающий скорее закончить начатое. И как только Данила разгадал это настроение неизвестного наблюдателя, произошло совсем уже немыслимое: кто-то пощекотал его со спины. Я чувствую его худые пальцы. Обернувшись, Данила никого не обнаружил.
Ряды петляли и прерывались. Казалось, расположение палаток, контейнеров и прилавков — беспорядочно и стихийно: пришедшие торговать первыми устроились в более насиженных и проходимых местах, к ним присоседились их привычные собутыльники, а где двое или трое торгуют редкими книгами, продавцу текстильных изделий нечего делать. Пришедшие налегке вклинивались между прилавков, уплотняя строй, и выкладывали товары на цветастые покрывала поверх сырой земли. Таким образом каждый день создавалась новая структура этого безумного лабиринта.
Дисками и кассетами торговали многие. Под стать прочему ассортименту рынка фильмы были устаревшими морально, диски, исцарапанные, в потрёпанных боксах — устаревшими физически. Как найти того, кто мне нужен? Данила достал из бумажника сложенный вчетверо листок; рядом с названием станции и рынка была приписка, сделанная не то на весу, не то ослабшей рукой, но тем же Данилиным, почерком: «Хан Бушлат». За давностью и, предположительно, нетрезвостью разговора невозможно было вспомнить, кто и при каких обстоятельствах рассказал Даниле о салоне «Аудио-Видео» на Боровой и о Хане Бушлате, которого предстояло разыскать здесь — на Удельной.
Вероятнее[17] было бы вовсе не задаться вопросом, «обманут ли меня снова?», нежели задаться и ответить «нет, не обманут», однако Данила рассудил так: «Раз в первом месте были мошенники, во втором должны быть порядочные люди». Не нужно быть философом или программистом, чтобы понимать изъяны этой дискретной логики, но филологам, тем более бывшим, прощается и не такое.
Теперь Данила шагал вперёд, скользя невидящим взглядом по встречным, как по каменным ограждениям. Спустя десять минут блужданий он стал догадываться, что рынок имеет центральное ядро. На это указывала такая деталь: у его западной границы, со стороны Фермского шоссе, ряды, параллельные или перпендикулярные дороге, если и изгибались дугой, то исключительно с кривизной, предполагающей центр окружности в стороне железнодорожных путей, и наоборот — у железнодорожных путей дугообразные ряды указывали на северо-запад, в сторону Фермского шоссе. Если рынок действительно организован вокруг некоего центра[18], кому как ни человеку с прозвищем Хан его занимать?
Существует такой способ прохождения лабиринта: всё время придерживаться одной стороны, левой или правой. Возможно, так бы Данила и поступил, если быво-первых, знал этот метод, во-вторых, всерьёз воспринимал окружающее как лабиринт. Двигаясь вдоль одной поверхности (преломляющейся, изгибающейся, не имеющей конца), пришлось бы проходить путями заведомо тупиковыми, посещать закутки бессмысленные и опасные и потратить на это уйму времени, а значит, обременить повесть излишними ответвлениями, коих и без того предостаточно, словом, хорошо, что Данила не знал этот метод и не воспринимал окружающее как лабиринт.
Я чувствую тяжёлый чей-то взгляд. Осознав своё мучительное положение, Данила поднял глаза, чтоб увидеть — видят ли его[19]. Небо по-прежнему оставалось пустым и бесцветным. Мысли принимали нежелательный оборот, размышлять о Боге в такую минуту, как, впрочем, и в любую другую минуту…
С платформы громко прозвенел звонок. Надо полагать, звенел он и раньше, но до сих пор Данила не замечал его. Который теперь час?
Некто выхватил Данилу из оцепенения вопросом: «Вы ищете книгу?»
— Фильмы, то есть диски с фильмами… — сказал Данила, приходя в себя.
— А зря… — мужчина предпенсионного возраста разочарованно щёлкнул языком.
Данила уже приготовился принять упрёки в адрес своего поколения, но упрёков не последовало. Мужчину отвлёк собутыльник, молодой и симпатичный, но с ленивым глазом: «Ну, давай уже, продай на двадцать рублей и пойдём!»
— Всё по двадцать! — сказал мужчина предпенсионного возраста и обвёл ладонью своё добро, помещающееся на табуретке: модельки, медальки и столовые ножи, никаких книг на табурете не было и в помине.
— А потом проводим, — добавил он, — нам по пути.
Данила вручил парню с ленивым глазом, которого про себя прозвал Полуповолочным, два червонца. Адекватная цена за работу двух провожатых. Выбрать что-нибудь из предложенного не смог.
— Какая яркая сегодня Венера, — переговаривались провожатые.
— Щиплет?
Данила был рад, что наконец-то стезя делалась прямой, цель приближалась, а попутчики, движимые желанием скорее приложиться к рюмочке, почти не обращали на него внимания — вели беседы о небесных телах и погоде. Но уже начало темнеть и холодать, люди (Данила снова мог разглядывать их, не боясь отвлечься и заблудиться) неспешно собирали вещи.
Круглый шатёр, обтянутый полиэтиленом, нисколько не умалявшим его величия, возник внезапно, слишком внезапно даже для этого места. Вероятно, дело заключалось в неявных перепадах ландшафта, — наверное, шатёр стоял в низине, иначе совсем неясно, как до последнего ему удавалось скрываться от взгляда за палатками значительно меньших размеров. Когда Полуповолочный слабо улыбнулся и откинул прозрачную створку, пропуская во внутреннее пространство шатра, Данилу пронзило чувство узнавания, будто нечто подобное уже случалось совсем недавно и закончилось как-то трагически или даже зловеще. Миг спустя морок рассеялся.
Хан Бушлат сидел в центре помещения, окружённый немыслимым количеством хлама, как то: картины в рамах, картины без рам, рамы без картин, кувшины, вазы, искусственные цветы, глиняная посуда, фарфоровая посуда, столовые приборы, портреты деятелей культуры и науки, книги, журналы, подшивки газет, бубны-барабаны-балалайки, медальоны, значки, детские игрушки, настольные игры, лыжи, лыжные палки (непарные), мячи всех видов и форм, велосипед (один-единственный), кое-какая мебель, фуфайки-шапки-шляпы, удочки, снасти и т.д., и т.п., и, конечно же, к великой радости, к величайшему облегчению, видеодиски.
— Чего здесь только нет, — как бы виновато подытожил увиденное Данила.
— Летом и грибы бывают, и рыба, и ягоды, если соседи по даче теряют бдительность, — ответил хозяин шатра, обаятельный светловолосый мужчина с намечающейся лысиной. — Ну а чего, три дочки на выданье — кручусь-верчусь.
— Ворьё — оно и есть ворьё, — сказал мужчина предпенсионного возраста, нащупывая, как вслепую, поручень лестницы, ведущей куда-то под землю. Полуповолочный, пропуская медлительного старшего товарища вперёд, водил пальцами по трубочкам и колокольчикам, подвешенным над прилавком с восточными безделушками.
— Идите куда шли! — Хан обиженно замахнулся на Полуповолочного трезубцем.
— Оккупировал единственный проход, теперь терпи!
— Это всё, что есть? — спросил Данила, стоя у прилавка с дисками, чтобы поскорее прервать притворную перебранку. Его слова задели Хана за живое.
— Разве мало?
— Но и не много. Нет, ну фильмы у вас — что надо, — искренне похвалил Данила, вглядываясь в названия на боксах. Удивительно было обнаружить этот клад в таком месте.
Полуповолочный махнул рукой на прощанье и даже, кажется, попытался подмигнуть здоровым глазом. Он вслед за старшим товарищем скрылся в темноте лестницы.
Преодолённые трудности, как посчитал Данила, служили гарантом того, что сделка пройдёт без осложнений, на этот раз никто не станет его обманывать и уж тем более оглушать свистом и укладывать лицом в пол. Однако не мешало бы проверить товар, с чем он и обратился к Хану, который с пониманием и без лишних слов предоставил такую возможность: водрузил на стол перед Данилой портативный видеоплеер.
Диски были не то лицензионными, не то подделками высочайшего качества: голографические наклейки, оригинальные полупрозрачные упаковки с трёхлепестковыми держателями, яркая печать обложек и вкладышей. Наверное, где-нибудь украл. Причём недавно. Ну а чего хотеть? — три дочки на выданье.
В нагрузку к битком набитой китайской клетчатой сумке Хан Бушлат пытался сбагрить кубок из тибетского серебра, и Данила не без труда нашёл нужные слова, чтобы отказаться.
— Приятно было иметь с вами дело, — сказал Данила, расплачиваясь, потом добавил: — Простите, если не к месту, один вопрос… просто вы первый хороший человек, которого я тут встретил…
— Без проблем. В чём дело?
— Может, вы мне скажете, почему по Питеру ходят одни алкаши, бомжи и сумасшедшие? Один со стихами лезет, другой со сковородкой на голове, третий…
— Так вы днём гуляете?
— Ну.
— Ну так все нормальные днём на работе!
Хан Бушлат вызвал Даниле такси. Выяснилось, что лестница, уходящая под землю, которую, по выражению Полуповолочного, оккупировал Хан, ведёт в подземный переход, напрямую соединявший центральную площадь рынка с Фермским шоссе.
В подземном переходе показалась знакомая фигура. Из-за тусклого освещения трудно было разглядеть что-то кроме силуэта, но и одного этого было достаточно, чтобы узнать в приближающемся пешеходе Бориса Гребенщикова. Каких-то несколько минут сердце и разум находились в зыбком спокойствии и вот опять встревоженно забились, заклокотали.
Слова, откуда-нибудь должны прийти нужные правильные слова, и как можно скорее. Приветствие, простое приветствие, непринуждённое, но без нахрапа; я гитарист, здравствуйте, нужен ли вам гитарист? здравствуйте, слишком просто, без изящества, без загадки; желаю вам здравствовать? ну, это совсем… нет; а он всё ближе, идёт, как ни в чём не бывало; а может, мне застыть на месте? несколько дополнительных секунд; испугается, развернётся; постукивает тростью, ого, антикварная, резная, где-то здесь и приобрёл, где-то на Удельной; как ни в чём не бывало; он ведь видит, что я замедлил шаг? практически остановился, но нет, поглаживает бороду; и что я скажу, возьмите меня в группу? да с какой радости? да с какой стати? да с чего вообще Владислав решил, что я должен к нему подходить? но нет, нет времени, слово, какое-нибудь, как там здороваются люди, привет, ну привет, я пришёл к тебе с приветом, ну точно с приветом, нет-нет, вот-вот, хлоп-хлоп, хвать-хвать, а-а-а!
«Здравствуйте!» — услышал Данила собственный голос. «Моё почтение!» — услышал Данила голос Гребенщикова. «А правда, что вы купили проездной, чтобы смущать людей? Чёрт, не обращайте внимания, простите, у меня был трудный день, я несу что попало». — «Очевидно, что-то тяжёлое». — «Тяжёлое? Ах, это?! Да, ну, то есть нет, нормально. Простите, я так волнуюсь, потому что привык видеть вас с самого детства, ну, то есть не в буквальном смысле — по телевизору, и вот вы здесь, такой же, и я как будто знаю вас сто лет, а вы видите меня впервые и думаете, наверное, что за дурак, что ему нужно…» — «Почему же? У вас чистые глаза, я вижу. Вы?..» — «Ой! Данила, очень приятно». — «Знайте, что это взаимно, Данила. А вы откуда?» — «Я из Кемерова». — «Столица Кузбасса! Замечательное место, я бывал у вас не так давно». — «Простите, я не был на концерте». — «Не надо извиняться, бывает». — «Понимаете, ещё с общежития, ещё с университета, то есть я филолог, мы мечтали, что будем играть, мы с друзьями, что-нибудь авангардное, экспериментальное, что-нибудь из ряда вон, ну, как «Аквариум», но это я при вас говорю об «Аквариуме», вообще — «Поп-механика», «Звуки Му», помните, вот, хотелось что-нибудь… в общем, я гитарист, и мне сказали, вы можете послушать, может быть, что-то найдёте в том, как…» — «Данила, это замечательно, музыка — это ведь особый способ познания бытия, и если в вас есть такая тяга, это замечательно. Могу только пожелать удачи». — «Нет! То есть, конечно, я не могу вас заставить и не хочу, да, по сути, это и не моя идея. Так что, конечно, я бы и не пристал к вам никогда в жизни, просто подумал, если бы вы послушали, как я играю, то есть как я теперь играю…» — «Ладно». — «Что ладно?» — «Убедили, показывайте». — «Сейчас?» — «А чего тянуть?» — «Но у меня нет с собой гитары». — «Дело ваше».
Борис Борисович, изобразив разочарование, качнулся в сторону, намереваясь обойти человека, перегородившего путь, и отправиться дальше — в шатёр Хана, а через него, вероятно, в какую-то другую часть рынка, где его ждут. Данила отпрыгнул назад, снова оказавшись перед Гребенщиковым, и выставил вперёд ладони. «Хорошо, я сыграю», — сказал он.
Данила переставил китайскую клетчатую сумку, чтобы расчистить воображаемую сцену, и пробросил через голову воображаемый ремень воображаемой гитары. Гребенщиков снисходительно улыбнулся. Установив левую руку так, словно она действительно держит гриф, и уже занеся правую руку для удара по струнам, Данила почувствовал себя глупее некуда. Если бы его визави воспринимал ситуацию иначе… но нет, это читалось во взгляде. Для обоих было очевидно, что намечается шутовство (кому позорное, кому забавное, но не слишком) и закончится оно неловким прощанием, не более. Совершенно измотанный этой короткой немой сценой Данила попытался опустить руки и вернуться к своим делам, но руки словно отпружинили от незримой опоясывающей сферы, разрастающейся из области живота, и вернулись к исходному положению. Борис Борисович тоже заметил этот противоестественный кульбит руками и выражение его лица резко переменилось. Данила снова попытался опустить руки, теперь уже приложив больше усилий, но всё повторилось. Откуда-то из сердцевины неспешно разрастающейся сферы доносились едва уловимые отзвуки далёкой древней мелодии. Ни на что не похожая, производимая неизвестным или навсегда утраченным инструментом, мелодия была как бы эхом самой себя. С каждой секундой она становилась отчётливее и громче. Медленно, поддаваясь архаичному ритму, Данила ощупал стенки сферы уже изнутри, они были эластичными, влажными и тёплыми. К этому моменту сфера поглотила всё его тело по шею. Вскоре выяснилось, что мелодия напрямую зависела от телодвижений Данилы. Перебирая пальцами, он создавал еле слышимое фоновое журчание высокого тона, покачивания туловищем давали подобный эффект, только звук получался глубже и интенсивнее. «Да, — услышал он собственные мысли, — подходит». Когда и голову Данилы поглотила сфера, музыка во всей полноте охватила сознание, вытеснив внутреннее «Я». Осталось только тело, скачущее на углях, извивающееся в ритуальном танце, растворившееся в непостижимой тёмной музыке. Музыке, которую сам танец и порождал. Вскоре сфера вобрала в себя и Бориса Борисовича. Мелодия сделалась мрачнее и агрессивнее, ещё многообразнее, ритмичнее и истеричнее. Казалось, одно мгновение — и стены перехода треснут от набирающей мощь музыки. Казалось кому?
Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Может, это и вовсе Даниле почудилось, однако сознание, вернувшись обратно в тело, нашло его удивительно лёгким и чистым, отдохнувшим и наполненным жизнью. Только горло горело, как после стакана водки с перцем.
— Вы знаете, что такое «мын»? — спросил ошарашенный Гребенщиков.
— Нет.
— Нет, вы знаете, что такое «мын»!
Борис Борисович протянул открытку с красивым готическим особняком и единственной надписью «Дом с Химерами»[20].
— Вам знакомо это место?
— Разберусь.
— Тогда ждём после обеда, думаю, найдём, чем вас занять.
Таксист, грузный кавказец лет тридцати, доставил Данилу на Ленинский проспект и отказался от денег. «У нас с Ханом свои счёты», — сказал он с неподражаемым акцентом и пожелал удачи.
Вечерний Юго-Запад Петербурга мало чем отличался от вечернего Кемерова — те же многополосные дороги, те же высокие фонари, те же клочки размытой земли вместо зелёного газона, такое же небо — без единой звезды. Пустынно и спокойно. Мокрый асфальт тротуара в золотом свете фонарей казался усыпанным камнями янтаря, а под неоновыми вывесками магазинов — раз уж взята высокая нота — усыпанным изумрудами, рубинами и сапфирами.
Тень собиралась под Данилой синим чётким пятном, вырастала и растягивалась по мере того, как он удалялся от источника света, расслаивалась и раздваивалась, когда он приближался к следующему фонарю, и снова собиралась под ним синим чётким пятном.
Тень проскользнула в каменный портал и сломалась, забираясь на керамогранитную стену дома.
Усталость вернулась в тело, неожиданно приятная, она перекатывалась из одной конечности в другую ртутными шариками. Сумка, из которой то и дело доносилось поскрипывание пластиковых боксов, была совсем лёгкой — отпусти, и она сама поплывёт рядом в воздухе.
Андрей, вероятно, задерживался. Данила перебрал диски, прибрался в квартире, сготовил овощное рагу, — друг всё не появлялся. Разглядывая библиотеку Андрея, которая более чем на половину состояла из книг, приобретённых ещё в Кемерове, Данила обнаружил множество своего рода закладок — засохших постельных клопов. Скорее всего, они поселились в книгах ещё в съёмной квартире молодожёнов, а после их развода впали в анабиоз и умерли с голоду в этой ипотечной студии. Как Данила ни вчитывался в избранные насекомыми страницы, внятного предсказания не складывалось.
На местных телеканалах обсуждалась исключительно погода, специалисты прогнозировали частичное затопление города. Данила просидел перед телевизором не больше трёх минут — после встречи с клопами, пускай и мёртвыми, конечности зачесались, по животу и спине забегали созданные воображением кровопийцы, которых нужно было немедленно смыть.
Ванна набиралась медленно. Из крана шла слегка желтоватая мягкая вода. Мыло, пахнущее смолой и благовониями, как будто оставалось на теле невидимой плёнкой. Данила пристально и с большим интересом разглядывал своё обнажённое тело в непривычном свете: лампочка в ванной Данилы находилась под потолком, а в ванной Андрея сразу над дверью; разница незначительная, а тени ложатся иначе. Данила принялся размышлять о тенях, отбрасываемых статичными предметами комнаты, в которую не проникает солнечный свет, о тенях, которые, как приклеенные к полу, никогда не меняют своей конфигурации, но шум открывающейся входной двери не позволил додумать эту тревожную мысль.
Андрей раскладывал купленные продукты на столе: сыр, колбаса, газировка, пачка пельменей. Данила смущённо прошмыгнул к своей одежде, оставленной на полу у дивана, прикрываясь полотенцем. Только надев брюки, поздоровался с другом.
— Я овощей натушил, пельмени можно завтра…
— Знаю, знаю, — пожав плечами, ответил Андрей. — Я не ем такое.
— Какое — такое? Овощи?
— Голые овощи.
Каждый ел своё, думал о своём. После ужина Данила вкратце рассказал о намечающемся прослушивании и уселся перед раскрытой сумкой хвастаться приобретёнными дисками: извлекал боксы, показывал обложки, зачитывал аннотации. Для просмотра выбрали нашумевший блокбастер, но выключили его сразу же после претенциозного текстового пролога из «Откровения» про Книгу Жизни.
— Паразитирование на христианском мифе, — с досадой прокомментировал Андрей. — Как самим не надоело?
— Другое выберем?
Андрей отрицательно покачал головой. Он нажал кнопку открытия дисковода, подошёл к проигрывателю, извлек компакт-диск и, разглядывая его поверхность на свету, шёпотом произнес:
— Я планировал сегодня покончить с собой. Здесь, дома.
Данила молитвенно сложил руки и прижал их к губам, ничего не произнося. Взгляд его сделался пустым, но строгим, дыхание редким, но шумным.
— Весь день мерещилась эта кружка, — Андрей кивнул на стол и передал компакт-диск в руки Данилы, — с мерзко-зелёной кашицей, а рядом — гора пустых блистеров и конвалют…
— Это что такое?
— Упаковки от таблеток. Пластиковые и бумажные.
— Слова-то какие.
Андрей смутился. Очевидно, он рассчитывал на другую реакцию.
— В любом случае уже по дороге я понял, что не получится. Твоими стараниями.
— Приехал, значит, тебе мешать, — сказал Данила, убирая компакт-диск в сумку.
— В ванной я бы не заперся — ты выломал ручку. А чтобы я сблевал таблетки, ты бы сунул мне под нос пропавший плов из мусорки. Это я по дороге только сообразил.
— Так надо было с балкона прыгать, — Данила постарался ответить предельно равнодушно и цинично, но мышцы лица задрожали, челюсть заходила ходуном, ноздри вздулись.
— Это кровь. Ты не знаешь, о чём говоришь, — Андрей отвернулся, делая вид, что ищет что-то в столовом ящике. — Пожалуйста, уезжай отсюда. Завтра же. Этот город тебя сожрёт.
— Я уже понял.
Больше в этот день никто не проронил ни слова. Расправляли постель молча, но слаженно.
Окна подрагивали от ветра, тени оживали, подхваченные светом молний, бились о потолок и стены и снова спутывались в мёртвое бесформенное месиво. Андрей лежал на спине, вытянув руки вдоль туловища, смотрел на люстру и шмыгал носом. Данила, отвернувшись, водил пальцем по бумажным обоям в тех местах, где они натягивались от комочков цементного раствора, его голова медленно растекалась по стене. Погружаясь в сон, Данила слушал шуршание своих волос.
День третий
Данила проснулся совсем рано после беспечного сна, который очень подкрепил его. Не сориентировавшись в кровати, он поспешил встать, но ткнулся в стену большим пальцем правой ноги, чем весьма себя развеселил.
Потягивание вызвало приятную боль в мышцах, а зевок — неприятную боль в горле. Голосовые связки были воспалены, голос пропал. В памяти разом вспыхнули два события минувшего дня: джем-сейшен в подземном переходе с Гребенщиковым и разговор с Андреем о самоубийстве; две противоположные эмоции — радость и тревога, наслоившись, взаимонейтрализовались.
За окном сильно шумел ветер, снег и туман заполнили всё видимое пространство. Если бы местный пейзаж был лучше знаком Даниле, он, возможно, сумел бы ухватиться взглядом за еле заметный угол соседнего дома, за фонарный столб, прямую проспекта и достроить в воображении остальное, но сейчас создавалось ощущение, что квартира, в которой он находится, за ночь перенеслась в небытие.
В шкафу с посудой нашёлся маленький ковш, вполне пригодный для варки молотого кофе. Вчерашнее рагу Данила залил яйцами с молоком, обжарил. Завтракал он с большим наслаждением, насвистывая под нос мелодию «Вальса цветов», которую так хорошо усвоил за время поездок в лифте.
Причесался, надушился, оделся в чистое. Посмотрелся в ростовое зеркало и впервые за долгое время понравился себе. В прихожей на полке для ключей его ждал жёлтый конверт с ярко-красным восклицательным знаком. Данила заглянул внутрь — несколько голубых купюр и письмо. «Лишь бы список продуктов», — пронеслось в голове.
Милый мой друг, мой Даня!
Это деньги на билет до Кемерова, я узнавал, должно хватить. Пожалуйста, поезжай на вокзал, нигде не задерживайся и ни с кем не разговаривай, садись на поезд, уезжай из этого проклятого города. Ты ведь нашёл то, что искал, тебе незачем здесь находиться, ведь так?
Жалкие деньги — всё, что я могу предложить, но я правда не знаю, как спасти тебя, как заместить собой тебя. Вчера после работы я впервые в жизни исповедовался. Огонь, знаменующий угодность жертвы, не сошёл. Видимо, я как тот школьник, что, складывая два и два, получает двадцать два, — не понял правил.
Всё, о чём я мечтаю, — не получить сегодня о тебе никаких вестей, остаться в полном неведении о том, что ты выбрал. Но решать, к сожалению, тебе.
Не пойми, но доверься.
Твой А.
Данила вернулся в комнату, оглядел свои сумки: китайскую клетчатую с дисками и дорожную с вещами. Выругался на себя, что набрал столько одежды и обуви, будто собирался на несколько месяцев. Оторвал сумки от пола, прикидывая, сможет ли ковылять с ними весь день, пока не найдёт себе угол.
— Беги! — сказал Даниле его внутренний голос.
— Куда же бежать? — спросил его Данила. — Без паспорта я даже билет не куплю.
— Беги! — повторил голос.
— Если Андрею настолько неприятны мои удачи, неприятна моя компания, что он выпроваживает меня, притворяясь сумасшедшим, это не значит, что я должен уезжать из города. Достаточно съехать с его квартиры. Вчера он говорил о самоубийстве, сегодня об исповеди…
— Он любит тебя.
— Он сказал, что плов помешал ему покончить с собой!
— Хм, действительно…
Другие вопросы: оставаться ли в городе или немедленно уехать, сходить ли на прослушивание к Борису Борисовичу, оставлять ли вещи в доме Андрея или брать с собой, решились сами: оставаться, сходить, оставлять до вечера. Рядом с деньгами из конверта Данила положил записку: «Тебе ещё платить ипотеку».
В квартире сделалось неуютно. Вернулось чувство, будто за Данилой наблюдают — не то родственники Андрея с фотографий, не то индийские статуэтки с полок, не то соседи через отверстия в розетках и дверной глазок — наблюдают, поторапливают, гонят из дому. Как младенец делает первые шаги — не потому, что где-то его ждут дела, — так и Данила, накинув ветровку и положив открытку с «Домом с Химерами» в нагрудный карман, решил пуститься в дорогу.
В окне по-прежнему транслировали белый шум. Выходя из квартиры, Данила был готов не увидеть там ничего, кроме слепящей белой пустоты, но нет — взгляду предлагался морковного цвета коридор, по обе стороны утыканный металлическими дверьми, заканчивающийся лифтовым холлом. Духоподъёмная пьеса из «Щелкунчика» играла из динамиков в потолке лифта и действовала на нервы.
На улице творился настоящий кошмар. То немногое, что удавалось разглядеть в тумане, вселяло ужас. Дорожные знаки вертелись как флюгеры, усы троллейбусов перекручивались, с треском и искрами обрывая провода, пластины рекламных щитов сыпались на проезжую часть. У площади станции вырванный ветром светофор перекрыл тротуар, но продолжал светить вхолостую. В подземном переходе, ведущем к метро, газеты и листовки кружились, как неведомые птицы.
Голос диспетчера объявил о закрытии станций «Василеостровской», «Приморской» и «Спортивной». Ожидающие поезд на платформе только и говорили о последствиях шторма и угрозе наводнения.
Переполненный вагон возник внезапно, будто материализовавшись из царства теней. Представшая перед Данилой ожившая фреска в стекле, обрамлённая задубевшей чёрной резиной, вполне соответствовала его представлениям об аде. Пассажиры в неестественных позах вжимались в поручни, задыхались, беззвучно стонали. Возмутительней всего было видеть людей, умудряющихся в этих обстоятельствах читать газеты и книги. Человеческий поток поглотил Данилу и вложил в самую сердцевину вагона. Поезд тронулся.
— Контрабандист! Пират! — послышалось откуда-то сбоку. Сердце Данилы оборвалось. Приложив немало усилий, он обернулся на голос.
— Десять букв, пятая — «у», — продолжил выкрикивать в толпу безобразного вида мужичок, походящий на врубелевского сатира, с тем лишь отличием, что у него отсутствовали рога, а вместо флейты он держал в руке журнал сканвордов.
Данила облегчённо выдохнул.
— Флибустьер! — ответил кто-то сатиру, перекрикивая скрежет колёс.
Вагон сильно болтало. Одной рукой Данила вцепился в поручень над головой, второй упёрся в окно. Слева от него стоял мальчик в зелёном дождевике с квадратным школьным рюкзаком на груди и совсем ни за что не держался: сноровки хватало балансировать на широко расставленных ногах. Сидящий перед ним мужчина, тощий, как скелет, и пучеглазый то и дело передавал в свободные руки мальчика блокнот и ручку. Сперва Данила подумал, что кто-то один в их паре глухонемой, а второй не знает язык жестов, но едва эта мысль возникла, мужчина вопросительно произнес: «Ножками побежал?», возвращая блокнот, и мальчик безрадостно кивнул в ответ.
Сатир снова обратился к пассажирам.
— Демон в индуизме!
Ему не ответили.
— Ну же, господа петербуржцы!
В его голосе отчётливо угадывались напускной азарт и неприкрытая насмешка над окружающими. Сатир, с ногами забравшийся на сиденье и потому занимающий полтора места, очевидно наслаждался положением своего тела и внутренней свободой.
На станции «Кировский завод» в вагон утрамбовался целый класс подростков. Учительница громко возмущалась, пытаясь как-то скоординировать их перемещения, но дети разбрелись по всем углам, не слушая её и даже больше — всем видом давая понять, что её власть не распространяется на них вне школы. Девочка с двумя косами, бедно и неряшливо одетая, прижалась к правому плечу Данилы, достала плеер и как бы невзначай принялась крутить его в руках, включая то радио, то часы, то диктофон.
— Ты пытаешься отсрочить неизбежное! — сказал пучеглазый мужчина, передавая блокнот мальчику, и как-то безумно улыбнулся. Сама-то улыбка была обыкновенной, но глаза, выпученные, как при базедовой болезни, любой эмоции сообщали оттенок безумия. Мальчик пожал плечами и погрузился в записи.
Данилу подвинул чуть вперёд и вбок тучный мужик с хвостом и в кожаной куртке. Виноватое стыдливое выражение его лица никак не сочеталось с брутальной внешностью. Он навис над девочкой с плеером и, казалось, моментально заснул.
Невозможно стало ни повернуться, ни вздохнуть — толпа объяла, будто намереваясь выдавить из Данилы жизнь. В давке, духоте, рокоте и гомоне навязчиво и будто злонамеренно разворачивалось по пяти направлениям нечто драматическое, затекая отовсюду и полностью заполняя узкое поле внимания. Оттесненное сознание пульсировало где-то в конечностях, то вспыхивая, то угасая, и каждая новая вспышка была слабее предыдущей.
— Обрадую тебя ходом аш-пять! — сказал мужчина, делая отметку в блокноте.
«Играют в шахматы», — раздалась мысль Данилы уже откуда-то извне его самого. Мысль, даже не мысль, а догадка, но и никакая не догадка, а загадка: каким образом двум попутчикам, не имея доски и фигур, удаётся проводить партию, — загадка эта содержала в себе какую-то живительную силу и удерживала сознание Данилы неподалёку от тела. Рисунок доски? Вырезанные фигурки?
Взор заслонили взаимопересекающиеся чёрно-белые бумажные пластины с нарисованными детской рукой пешками, ладьями, конями. Куда бы ни поворачивался Данила, картинки тянулись за взглядом, как плавающие мушки, скользящие по поверхности глаза. Фигуры отлипали от плоскостей, поднимались, как в книжке-раскладушке; покинутые пластины плотно переплетались в косы девочки с плеером, их вдыхал, закатывая глаза, мужик в кожаной куртке. «Вечный шах! Вечный шах!» — говорил жёлтый скелет мальчику и двигал кривого серого ферзя по всему вагону. Мальчик неожиданно низким голосом отвечал: «Этот слон неактивен! Это мат в один ход!», но скелет сильнее прежнего пучил глаза и кричал: «Ну не пойдёшь же под шах?!» Этот шах душил. Он не был воплощён во что-то материальное, вроде промасленного шёлкового платка, окроплённого водой из Невы, нет, но душил. Сил на то, чтобы задаться вопросом: почему возник образ платка, уже не оставалось. Шах нависал над Данилой, как мужик с хвостом нависал над девочкой с плеером. Школьники сталкивались лбами, как разномастные обездвиженные пешки, рубящие только по диагонали. Данила переставил руку, которой упирался в стекло, и освободил именно тот фрагмент поверхности, в котором отражалось лицо девочки, одетой так бедно и так неряшливо. Лицо девочки больше не выражало детской хвастливости дорогой игрушкой, оно выражало то, что не должно выражать лицо ребёнка. Мужик с хвостом тёрся о её шерстяную юбочку, касался её бедер, дышал ей в ухо. «Это поле простреливается!» — «Твой слон прикрывающий! Он не может ничего простреливать!» Сатир поднялся обоими копытами на сиденье и, размахивая журналом, просил внимания: «Господа петербуржцы! Есть ли среди нас знаток киноискусства?» Мальчик швырнул в жёлтого скелета блокнот и, начав басом, моментально перемахнул в скрипящий фальцет: «Сожри моего короля, раз такой умный!» Поезд беззвучно сошёл с рельс и поплыл по стене тоннеля, света в вагоне становилось всё меньше, звуки стихали, пространство всех чувств заполнила густая темнота, и только вопрос сатира успел догнать сознание на излёте: «Последний фильм Тарковского?»
— Жерт-во-при-но… — просипел Данила, открывая глаза.
«”Площадь Восстания”. Следующая станция — “Чернышевская”». Данила полулежал на сиденье, не помня, как проехал пять станций. Он огляделся — состав пассажиров сменился полностью, стало значительно просторнее. На его неразборчивое сипение никто не обратил внимания, видимо, приняли за пьяного.
В последнюю секунду перед закрытием дверей в вагон вскочила рыжая дамочка в очках и уселась перед Данилой. На дамочке был небесного цвета плащ и телесного цвета шарф, завязанный галстуком. Она покачивалась, зажав руки коленями, и восстанавливала дыхание после вынужденной пробежки на каблуках.
«Попала под дождь», — ещё отрешённо, но уже возвращаясь в себя, думал Данила, глядя как с её рыжих волос на плечи падают капли. Это зрелище было вознаграждением за перенесённые мытарства поездки. Глубокий сон подарил прекрасную невесту. Какая милая дамочка! И эти светлые карие глазки за чёрной оправой…
— Вы так смотрите, у меня шоколад на щеке?
Данила, застигнутый врасплох, инстинктивно замотал головой, мол, нет — ничего особенного — и шоколада нет, и я совсем не смотрю, а если и смотрю, то совсем не так. Но шоколад был и, разглядев, наконец, его, Данила сменил движение головы и радостно закивал. Получилось нечто совсем уже странное, поэтому дамочка потупилась. Несколько секунд нерешительность блуждала по её лицу, затем, не выдержав, дамочка пересела к Даниле.
— Так есть у меня что-то на щеке или нет?
— Есть, — просипел Данила и тут же схватился за горло.
— Ой, — сказала дамочка и сочувственно прижала ладонь к своей груди. Затем она наклонилась и подняла с пола блокнот, лежавший всё это время, как оказалось, у ног Данилы.
— Ваш?
Блокнот почти полностью был исписан шахматными нотациями. Последняя партия завершалась так: «Сс5:Крg1 Фd5:Крb5». Данила не мог увидеть мысленным взором доску, расположение фигур, но мог представить сложность и неоднозначность возникшего в игре положения по тому, с какой яростью, нажимом записаны эти ходы.
— Что там у вас? — спросила дамочка, заглядывая в блокнот и подавая шариковую ручку.
— Кажется, королей съели, — просипел Данила и от напряжения и боли на его лбу выступил пот. Потом догадался воспользоваться ручкой.
«Шоколад на правой щеке», — написал Данила.
Дамочка послюнявила большой палец, вытерла шоколадный след.
— А хотите, доиграем? — спросила дамочка. — Без королей начинается самое интересное!
Данила рассмеялся сквозь боль, и дамочка рассмеялась с ним. После минутного молчания она поблагодарила за помощь и хотела уже было отсесть на прежнее место, но Данила задержал её. Он достал из кармана открытку и написал: «Где это?»
— Красивый дом, я такой не видела, но, наверное, где-то в центре, — дамочка замолчала, анализируя свои слова. — М-да уж, подсказочка так себе.
Даниле очень хотелось рассказать, в чём, собственно, дело, что в Доме с Химерами известная личность ждёт его сегодня на прослушивание, но писать длинное предложение, писать под взглядом, подбирать слова, избегая тех, в которых можно сделать ошибку, было неловко и боязно.
— Шахматы не глядя — высший пилотаж, это похвально. Наверное, вы очень умный?
Данила растерянно улыбнулся.
«Может, встретимся как-нибудь?» — написал он.
— Ну, сегодня пятница. Можно и выпить.
«Бар?» — от радостного волнения Данила не смог написать более развёрнутое предложение.
— Не люблю бары… А что если мы возьмём по пиву и прогуляемся в парке у меня на «Лесной»?
— Здорово!
— У вас есть мобильный?
Данила отрицательно покачал головой.
— А как же мы?.. Хорошо. Я буду ждать вас на выходе «Лесной» в шесть тридцать, договорились?
Вдруг Данила вспомнил, что в кладовой на Загородном проспекте его ждёт тяжёлый чемодан. Он вспомнил, как вчера с таким трудом волочил его по городу, как застрял меж планок турникета. Лёгкая паника охватила его. Данила ударил ладонью по лбу, поднял указательный палец — один момент — и принялся записывать: «У меня будет тяжёлый чемодан. Боюсь, он испортит нам прогулку».
— Никакой проблемы, — сказала дамочка. — Зайдём ко мне, оставим там. А если погода не поправится, так можно будет и самим остаться дома. Так даже лучше.
Данила просиял.
— Интеллектуально развитый, — она показала на нотацию, — молчаливый мужчина. Как же от такой компании можно отказаться?
Распрощались на станции «Лесная», дамочка, едва ли более чем на пять лет старше Данилы, пошла к эскалатору, Данила, проводив её взглядом почти до самого верха, зашагал к платформе в обратную сторону. Под громыхание колёс он перечитывал свои реплики, припоминая ответные, не веря своему счастью.
Парень с кепкой поверх банданы и в мешковатой одежде, глядя на протянутую открытку, разулыбался, обнажив брекеты, и сказал: «Вам на “Пушкинскую”». Ответ Данилу порадовал — в раннем выезде наметилась запоздалая логика: перед прослушиванием, которое, оказывается, будет проходить где-то неподалеку от дома Владислава, можно будет заглянуть в тайник, проверить, наконец-таки, содержимое чемодана и, в случае удачи, вернуться за ним до вечера. Многого ждать не нужно — возможно, диски и вовсе такие, что не стоит обременять себя ими, но нет — на Уделке люди умудряются торговать вещами ещё более никудышными; но эти соображения лучше оставить незавершёнными и вернуться к ним уже после прослушивания, ведь если оно пройдёт успешно, — и видеопрокат, и Кемерово останутся в прошлом; всё-таки желание лучшей, интеллектуально и культурно насыщенной жизни, пора бы уже себе в этом признаться, и подтолкнуло к поездке в северную столицу, остальное было лишь предлогом. Обдумывая, как вернуть ключи от кладовки владельцу, Данила внезапно осознал, что его экземпляр наверняка не единственный, а значит, Владислав, человек столь непредсказуемого поведения, способен похитить чемодан из одной только тяги к вредительству. Господи! И как можно быть таким легковерным?
Поднимаясь на эскалаторе, длинном, как час перед казнью, однако лучше употребить другое сравнение, — например, длинном, как лестница Иакова, имея в виду, конечно, ту её часть, которую не мог видеть святой праотец во сне, часть, соединяющую подземелье и землю, так вот, поднимаясь, на встречном эскалаторе увидел Данила приобнявшихся женщину и мужчину, которых видел прежде — в первый и второй день: на перроне «Лиговского» и в ногах классика соответственно, узнал их, и они, судя по широким беззубым их улыбкам, тоже узнали его. Они спускались на заработки, о чём свидетельствовали картонные таблички в руках: «На операцию…», «На водку». Мнительность проснулась в Даниле — разве бывают такие совпадения? — в городе-миллионнике встретить порознь двух человек, а затем встретить их вместе, — но вид этой счастливой четы, их неподдельная радость, успокоили. Опустившихся людей, обитателей социального дна, — размышлял Данила, — гораздо меньше, чем людей обыкновенных, они сбиваются в группы, образуют пары, вот и выходит, что не такое уж это и совпадение, и нечего столько об этом думать. Гораздо уместнее было бы поразмыслить о друге, о его положении и состоянии, о странностях, которые с ним происходят или которые он, так уж и быть, разыгрывает, но ведь не может делаться такое на ровном месте… И только нащупалась эта безусловно нужная правильная тема для обдумывания, как эскалатор, казавшийся бесконечным, иссяк, а значит, впереди — за турникетами, вестибюлем, тамбуром — поджидали уже другие, более насущные вопросы.
Ветер усилился, дождь перестал. Туман, если он и спускался в этот день на центр города, отступил, но только для того, казалось, чтобы не заслонять беспорядок, учинённый погодой. Распотрошённые рекламные тумбы, перевёрнутые мусорные урны, покосившиеся автобусные остановки удивляли, но не касались приподнятого милой дамочкой настроения. На пересечении Гороховой и Загородного проспекта было смято металлическое ограждение, возле него на асфальте рассыпалось голубыми кристаллами чьё-то лобовое стекло, более крупные обломки, видимо, были удалены.
Выгнанные из земли вибрацией дождевых капель черви заполнили весь тротуар — они, потерявшие розовость, выцветшие в воде, тянулись друг к другу, путались, завязывались в узлы, вяло шевелились в лужах. Многих перетоптали ещё до Данилы, некоторых раздавил он — ненароком, — обходя одних, случайно наступая на других.
На улице было немноголюдно, но, как бы в подтверждение того, что город принимает Данилу, он снова встретил знакомых: Полуповолочного и его старшего товарища. Раскланялись. Вообще, прохожие, не все, но многие, глядели на Данилу в упор, глядели приветливо и одобрительно. Он связывал это с тем, что сам лучился радостью. Какова сила влюблённости! Даже самая пустячная и мимолётная влюблённость способна примирить и с непогодой, и с расстроившейся дружбой. Да и можно ли, в самом деле, считать дружбу с Андреем расстроившейся, ведь стоит Даниле съехать куда-нибудь — в гостиницу или коммунальную комнату, — Андрей перестанет валять дурака, и отношения наладятся? «Вероятно, — думал Данила, — друг, не имея возможности побыть с собой наедине, становится раздражительным, вероятно, именно это и стало причиной их развода с женой».
По дороге к дому Владислава, а дорога от метро заняла десять минут, Данила увидел следы ещё двух автомобильных аварий. Значит, сообразил он, туман всё же опускался в этот день на центр города, и был он таким же плотным, как и на Юго-Западе. Можно только вообразить, что творилось на междугородних трассах, если по упущению администрации области они оставались открытыми. И поезда, скорее всего, не ходили, и самолёты не вылетали. Вдвойне глупым и бессмысленным показалось Даниле предложение Андрея покинуть город.
Навесной замок был всё тот же, что обнадёживало; тыр-тыр-тыр — урча, погрузился ключ в скважину, будто сложился телескопической антеннкой, бряц-бряц — откинулась запорная дужка, и-и-и-у — со скрипом распахнулась дверь кладовки. За сутки небольшое помещение — квадрата три — насмерть пропахло мочой и разложением. Чемодан был на месте, и запах, уже слышимый в первый день, разумеется, исходил из него. Выставив чемодан из кладовки на свет, первым делом Данила собирался проверить содержимое, но, едва коснувшись защёлок, почувствовал на себе взгляд, и не один. Ещё бы — в тихом дворе-колодце на чужака, копошащегося внизу, открывается обзор из сотни окон по трём фасадам. Данила переводил взгляд с одного окна на другое, и всё казалось, что не поспевал на долю секунды: вон мелькнула чья-то тень, а вон зашевелилась штора, но прямого подтверждения своему ощущению он не обнаружил.
Под пускай только гипотетическим, но взглядом, рассматривать контрафактные диски Данила побоялся — уволок добычу в тёмную арку. Это место тоже оказалось непригодным: в скудном освещении невозможно было бы оценить качество дисков. Но диски ли там? Этот вопрос, наподобие вопросов «выключил ли я электрическую печку?» и «закрыл ли я дверь?», вызвал закономерную досаду: «Как можно было не проверить?» Но не удивительно: вчера Данила торопился расстаться с грузом, доставившим столько неудобств, он пережил предательство от верного инструмента, пережил обретение новой музыкальной гармонии, ему была обещана вторая встреча с кумиром юности, да и, в конце концов, Данила никогда не мог похвастать внимательностью и последовательностью. Ну, забыл и забыл. Но, опять же, вчера в чемодане могло находиться что угодно, и пускай сам чемодан, как и вонь, из него исходящая, были всё теми же, это отнюдь не гарантировало, что Владислав не подменил содержимое.
Данила сел перед чемоданом, откинул защёлки и вложил пальцы в разверзшуюся щель. За металлическим ограждением на Загородном проспекте проходили люди, и все без исключения заглядывали в арку. Это Даниле, находящемуся под каменным сводом, было тяжело разглядеть собственные ладони, прохожим же на просвет был прекрасно виден молодой человек, сидящий перед какой-то таинственной коробкой. Данила, как бы заглядывая в своё ближайшее будущее, отстоящее от настоящего на несколько мгновений, увидел, как наугад опускает руки в непроглядную темноту открытого чемодана и не находит дна. Ну уж нет, — задвинув обратно защёлки, он поднялся, нащупал ручку чемодана и вышел на свет.
Вместе с Данилой на Загородный проспект вышел дождь, который пробыл дождём только несколько минут, после чего превратился в ливень. Нужно было скорее найти Дом с Химерами, и уж там в каком-нибудь светлом пустом, как загадывал Данила, помещении, отлучившись якобы в туалет, а может, действительно в туалете, проверить содержимое чемодана. И нет ничего подозрительного в том, чтобы появиться с ним на пороге студии, — мало ли что за инструмент таскает музыкант с собой в несуразном дурно пахнущем футляре. Ведь и вчера, Гребенщиков может припомнить, была с ним сумка, такая же по объёму. Может, в чемодане, как в сундуке Кощея, хранится Данилин музыкальный гений? Такая вот вырисовывается деталь образа: одним козлиная бородка и восточные перстеньки, другим горб и блестящие пиджаки, третьим — громоздкий потрёпанный кожаный чемодан. Всё будет в порядке, — уговаривал себя Данила и в обещание светлого недалёка воображал прекрасную дамочку с карими глазами за чёрной оправой. Выходило не слишком убедительно. Этот приём, срабатывающий каких-то двадцать минут назад, вдруг утратил силу.
Жестами Данила обратился к молоденькой некрасивой женщине, показал открытку, заслоняя её от дождя воротом ветровки.
Женщина фыркнула от возмущения, что к ней, а точнее — именно к ней, обратились, даже не взглянула на открытку, но сказала:
— До пяти углов, а там налево, — и махнула рукой не то указывая направление, не то посылая к чёрту.
Пять углов на то они и пять углов, что «налево» можно свернуть на две разные улицы. Не успел Данила озадачиться, как к нему, будто того только и дожидаясь, подскочила большая разношёрстная компания, и все, один больше другого картавя, принялись разъяснять дорогу. «Какая-то логопедическая группа», — думал Данила, вполуха слушая их перебранку.
— Чегез Ломоносовскую!
— Нет, это надо идти по Губинштейна!
— А я тебе говогю, по Ломоносовской быстгее!
— Вот давай поспогим!
За шиворот затекали струи воды, Данила сутулился, прижимал голову, чтобы хоть сколько-нибудь затруднить попадание влаги под одежду, но без толку — дождю будто бы было мало замочить его всего опосредованно, через ткань, — он будто бы стремился напрямую к голой коже. Нечто подобное, видимо, испытывали некоторые на Рубинштейна, но они, в отличие от Данилы, не сопротивлялись стихии: обнажившись до нижнего белья, мужчины и женщины бегали по улице, кричали, хохотали и купались в лужах.
Половина логопедической группы пошла за Данилой, вторая половина, по-видимому, отправилась туда же — к Дому с Химерами — по Ломоносовской, кто быстрее. Сзади доносилось: «Ты вообще местный?», «Да я когенной! Когенней некуда!»
Чемодан тянул к земле, разделить радость окружающих не получалось, хотя Данила и предпринимал попытки: снова вспоминая прекрасную дамочку, далее — представлял фурор, который произведёт своим выступлением на прослушивании, если удастся повторить вчерашнее — впасть в то же мистическое состояние, и ещё дальше — воображал лицо Андрея, спокойное, улыбающееся, одобрительное. Ведь разве может Данила оставить друга, выбившись в свет? Нет, его удачи — это удачи Андрея. И вот тут-то, на этой-то мысли и догнала его отступившая было тревога, не позволившая разделить радость окружающих. Вчера друг говорил о смерти — о страшной смерти, — о преднамеренном лишении себя жизни, а Данила, и это уже не оправдать рассеянностью и непоследовательностью, не повёл и бровью. Вместо того, чтобы обговорить всё как следует, разобраться, вмешаться, не пустить из дому друга — какая, к чёрту, работа в таком состоянии? — Данила уснул крепким безмятежным сном. И вот она, смерть, — понял Данила, взглянув, будто впервые, на чемодан. Та самая смерть, которую искал Андрей. И она всегда была здесь, — осознал Данила.
Дождь усилился. Казалось, куда уж сильнее — вода и так переливалась через поребрик с автомобильной дороги на тротуар, но нет — нашлись резервные силы. Чемодан тянул к земле, но Данила чувствовал, что и земля — не конечный пункт его устремлений: он утягивает глубже, в тоннели метрополитена, а оттуда — совсем пустяк — рукой подать до ада.
— Ну, это уже перебор! — обратился Данила к внутреннему голосу.
— Ты знаешь, что я прав.
— Всё ведь хорошо: меня ждёт женщина, ждёт новая жизнь. Я на пике. А с Андреем мы всё утрясём, не маленькие.
— Небольшие радости для того только и даны были, чтобы горче принял ты свою участь.
Помолчав, Данила согласился:
— Чувствую, что ты прав.
— Ну, вот и славно, — ответил внутренний голос и удовлетворённо смолк, будто признания только и добивался всю жизнь, а добившись, потерял интерес к собеседнику.
— Чего это ты?
— Мне пора собираться.
Прохожие, не все, но многие, глядели на Данилу прямо, ухмылялись, «Мне туда?» — «Туда, туда», похлопывали по плечу и ободрительно кивали. С лица Данилы давно уже пропала влюблённая улыбка, нечего им быть такими приветливыми… Девушку, которая прошла мимо, не обратив на Данилу внимания, он догнал, остановил и показал ей открытку, уже не пряча её от дождя. «Не припомню такого здания в Петербурге». Бумага размокла и по пальцам Данилы потекла грязно-коричневая краска. Раз он попытался оставить чемодан на крыльце перед рестораном, но его окликнули картавые: «Молодой человек, вы обгонили!» Намереваясь оторваться от преследователей, Данила свернул в сторону Фонтанки и побежал — быстро, не жалея сил. Он задумал сбросить чемодан в реку, но на набережной — какая неожиданность — встретил вторую часть картавой группы. В их толпе Данила заметил пополнение, и снова — знакомые всё лица — милиционер и торговец из проката на Боровой.
Данила шагал в сторону Невского проспекта без единой мысли. Чайки, сидевшие вдоль реки на перилах и гранитных тумбах, по очереди взлетали, когда Данила проходил мимо, переносились чуть вперёд по ветру, присаживались обратно на перила и гранитные тумбы и снова взлетали, когда Данила проходил мимо — не то чурались, не то провожали на эшафот.
Он дошёл до Аничкова моста, встал под скульптурой — под поверженным юношей и вздыбленным неподкованным конём, горько бы усмехнулся от такого совпадения, но силы разом покинули его. Показалось, что если бы удалось прямо сейчас заснуть, усилием воли можно было бы проснуться в поезде, подъезжающем к Московскому вокзалу три дня назад, а лучше — проснуться в своей кемеровской квартирке с прокатом в передней, никогда не совершать этой странной поездки, не знакомиться с этими странными людьми, не видеть этого странного города. Чемодан выпал из рук на мостовую навзничь — крышкой вверх, оставалось только открыть защёлки и откинуть её. Прежде чем сделать это, Данила осмотрелся по сторонам. Невообразимое количество людей сновало туда-сюда, и одному Богу было известно, что у каждого на уме: кто оказался здесь в эту минуту случайно, а кто намеренно — лицезреть публичную казнь, ритуальное жертвоприношение. Ведь и вина была при нём — равнодушие и гордыня в отношении друга, и невинность была — до двадцати семи лет Данила прожил в целомудрии — не специально — так получилось. И, конечно же, можно было обвинить его в краже, но этим следует пренебречь, ведь что получается — и объект, и возмездие в одном предмете? — это уже нечто из области притч.
Вот он — Невский проспект, воспетый Гоголем, вот она — сонная артерия Петербурга, самый что ни на есть центр города. Надежда, да что там, всё-таки нечто на границе надежды и уверенности — не убьют в самом центре средь бела дня — это вот самое нечто побудило скорее покончить с начатым. Данила открыл чемодан на глазах у сотни людей. В чемодане, сложенная вдвое, лежала старуха, вся с головы до пят облачённая в чёрное. Узнать её не составило труда, и речь не о том, что первого дня Данила видел её спящей на стуле у окна в видеопрокате — за дряхлым телом скрывалось существо иного порядка — пиковая дама, старуха-процентщица, старуха с часами без стрелок — вечная, как и всё сотворённое однажды, мёртвая, как и всё, сотворённое словами.
Данила вгляделся пристальнее, чтобы уверить себя в том, что опасность, какая есть теперь, носит исключительно уголовный характер. Закрытые веки старухи казались плоскими, будто за ними не было глазных яблок, сухой рот был перекошен, над ним темнели старческие чёрные усики, шёлковый платок с еле различимым растительным узором сбился набок, обнажив бесцветные залысины на лбу и темени, по бледной костистой руке ползла муха, не решаясь взлететь.
Вода вышла из берегов Фонтанки и исступлённо билась о подошвы, о стенки чемодана. Рядом со старухой в чемодане лежали два предмета: пачка сигарет и книга. Вот так поклажа в загробный мир! А может, старуха была ещё жива, когда я украл её? — спросил себя Данила, но ответа не последовало. Пачка сигарет Данилиной любимой марки подтолкнула к другому, более мрачному выводу: содержимое предназначалось одному ему, будто последнее желание уже было озвучено, приговор вынесен и орудие казни ожидало своей очереди. Данила подцепил оба предмета одним движением и отвернулся от ветра, чтобы прикурить, чемодан остался за спиной. Он пролистал книгу, нехотя замечая своё имя на каждой странице. Вперёд из толпы, наблюдающей за Данилой, выступили два узбека в флуоресцентных жёлтых жилетах, с носилками, будто уже совершилось то, что должно совершиться. «Данила, нет!» — откуда-то издалека донёсся крик, но Данила не нашёл кричащего взглядом — его, видно, сбили с ног.
Сигарету приходилось прикрывать от дождя ладонью. На страницы падали капли, они, страницы, вздувались и коробились. Данила пролистал книгу в конец, нашёл нужный абзац, нужную строку — эту самую — и с ужасом прочёл собственные мысли с листа: «Я — свободный человек, вольный поступать как угодно и когда угодно, на каждой странице, в каждой отдельно взятой строчке мог свернуть с намеченного кем-то, не мной, пути — достаточно было задержаться у какого-нибудь прилавка минутой дольше, но нет — как деревянный болванчик, как заколдованный, я думал, говорил, поступал слово в слово с написанным, чтобы оказаться здесь — в этой точке, с этой книгой в руках, пожирая букву за буквой, приближая свою кончину».
Он потянулся, чтобы сделать ещё одну затяжку — вторую с тех самых пор, как закурил, но весь табак истлел. Пепел обвалился на пальцы. Данила почувствовал противный привкус жжёного фильтра и уронил бычок в лужу.
Под одеждой мокрой спиной Данила почувствовал и одновременно — прочёл, что почувствовал чьи-то тёплые ладони. Его худые пальцы. Сделалось, наконец, ясно, кому они принадлежат. Вглядевшись в страницу — через строки, поверх строк, этих самых — как сквозь мутное стекло увидел Данила равнодушный, но уже хорошо знакомый чей-то взгляд. И этот кто-то увидел Данилу.
За спиной, и не нужно было оборачиваться, чтобы это знать, начала шевелиться старуха. Первой из чемодана показалась голова, чёрный платок от движения сполз с лысеющего затылка на шею. Костлявая рука, показавшаяся во вторую очередь, стянула платок и швырнула в лужу перед чемоданом. Третьей показалась белая, как кость, нога и принялась ощупывать мокрую мостовую, ища опоры. Рука навалилась на стенку чемодана, и в совместном усилии обеих конечностей с плеском вывалилось наружу всё тело. Старуха подобрала колени, нашарила вымокший платок, подняла к небу и одной ладонью выжала его практически насухо, продемонстрировав силу, какую сложно было заподозрить в этом немощном теле.
Когда мёртвое начинает шевелиться, живое становится обездвиженным, — Данила хотел обернуться, но не мог, как не мог оторвать взгляда от книги. Ему оставалось безучастно наблюдать за происходящим через текст и всеми силами убеждать себя, что написанному верить нельзя. Однако хлюпанье шагов за спиной было действительным, и зловонное дыхание в затылок было не списать на самовнушение, что уж говорить о шёлковом платке, который удавкой обвил шею, Данила и не заметил как — настолько быстро это произошло.
Если бы у души были органы зрения и ей вздумалось бы оглянуться на покинутое тело, увиденное вряд ли понравилось бы ей. Отёкшее лицо покрылось пятнами, язык вывалился изо рта, глаза вышли из орбит, а на шее остался бордовый след от удавки в два пальца шириной. Бездыханное тело торжественно несли вдоль реки на строительных носилках в сторону Невы. Впереди процессии, не во главе, но в самом начале, по мостовой выстукивал тростью довольный Борис Борисович, из одной только порядочности сдерживая улыбку. Замыкал процессию Андрей — живой-живёхонький, но, кажется, оттого ещё более грустный. Возможно, он ронял слёзы, но сказать это с определённостью нельзя. А вот что сказать с этого постепенно нарастающего отдаления незрячей души можно и даже нужно: дождь прекратился, ветер стих, вода отступила и, ну это уже совершеннейшая фантастика, жителям и гостям северной столицы, всем одинаково, улыбалось солнце. Город принял очередную жертву, и нечего столько об этом думать. Гораздо уместнее было бы поразмыслить о дальнейшей судьбе Данилиной души — куда она теперь? — на небеса или вслед за телом — в пучину морскую, а может, в пасть какого-нибудь древнего божества, но повесть так несвоевременно иссякла, а значит, впереди — за последним словом, за последней точкой поджидают уже другие, более насущные вопросы.
Письмо Владиславу Городецкому
То было возвращение в отчий дом. Ни отца, ни матери, царствие им небесное, дома я не обнаружил и скоро понял почему: возвращение было пространственным, а не временным. Новые хозяева перестроили дом на свой лад, разнородные пристройки облепили его как пиявки. Я заблудился в бесконечных коридорах, так и не найдя свою комнату — прибился к какой-то стене, поместил сумку с пожитками между полупустых ящиков и лёг на пол, подложив под голову свои ботинки.
В следующий раз я обнаружил себя уже на улице, бродящим вокруг дома. Я был бос. Дом, оказалось, разросся по восточной границе на весь квартал, поглотил соседние участки и только перед пятиэтажной хрущобой застыл, будто соизмеряя силы.
Ветром меня снесло в какой-то закуток, больше походящий на шкаф, нежели на самостоятельную часть здания. Здесь хранились мои вещи: конверт с остриженными кудрями, первые книжки, шкатулка с письмами школьных возлюбленных. Выступили слёзы — почему в мою сокровищницу так просто попасть с улицы? Может, новые хозяева не знают об этой дыре в фасаде?
Я протянул руку к какой-то книге, которую не видел раньше, которой не должно было быть среди моих вещей, но тут же на ней — на руке, а не на книге — появилась красная точка, как от снайперского прицела. В страхе я рухнул на пол и следил за точкой, вскоре она ускользнула из моего поля зрения. Не поднимаясь, я попятился обратно на улицу и полз очень долго по пыльной траве, пока не увидел в двадцати метрах мальчишку с лазерной указкой, который светил в мою сторону. Снайперский прицел… Разозлившись из-за своего глупого положения, я вскочил и намеревался задать мальчишке трёпку, но этот гадёныш, заметив меня, торжествующе прокричал: «Вот он! Вот он! Держите его!»
Чей-то голос комментировал мои перемещения: «Под топот и животные выкрики он бежал, удивляясь, как хорошо слушаются его конечности, что в подобных снах случается достаточно редко…» Я не должен был слышать этот голос, это было каким-то непредвиденным прорывом из других, надмирных, пространств. Прорыв этот, похоже, обнаружился мгновенно и был устранён: голос забубнил, как через тряпку, и вскоре смолк.
Достаточно легко я оторвался от преследователей, свернул за угол к парадному входу и перешёл с бега на шаг. Только теперь заметил, что окон в доме нет — новые хозяева не слишком заботились о естественном освещении, а скорее — боялись чужих глаз.
У входа под настенным фонарём топтались двое неизвестных. «Должен появиться с минуты на минуту». Говорили обо мне. Удалось прокрасться незамеченным и проскользнуть в дверной проём за спинами заговорщиков. Действительно удивился, как запросто мне это далось. Продвинувшись вглубь дома, начал жалеть, что так скоро покинул неизвестных, — нужно было задержаться, подслушать ещё — появилось соображение, что чем больше удастся услышать и запомнить, тем проще будет разыскать эту книгу о себе, внутри которой мне выпало несчастье оказаться.
В доме переговаривались две женщины, я пошёл на звук. Одну звали Пелагея — к ней по имени обращалась вторая. Пелагея отвечала односложно, без обращений. Повезло: я набрёл на письменный стол. Схватил шариковую ручку, лист бумаги и собирался «стенографировать» их разговор, опершись на стену, но чернила не вытекали в горизонтальном положении. Тогда я сложил листок вчетверо и убрал его в карман на всякий случай. Вытерев влажную ладонь о брюки, попробовал писать на ней — удача. Оправился, приготовился к письму, прислушался. Тишина.
— А вы у нас новенький? — голос из-за спины.
Я обернулся. Женщины изображали радушие, улыбались, но как только увидели у меня в руках инструмент письма, в глазах обеих вспыхнул огонь, и они без переглядываний и всяких знаков тут же бросились на меня.
Голос снова прорвался извне. Убегая, уклоняясь от летящих в меня предметов, падая и спотыкаясь на каждом углу, сложно было вслушиваться в речь. Гонительницы появлялись то с одной стороны, то с другой, я же всё время оказывался в тупиках у запертых дверей — знание устройства дома было главным преимуществом женщин. Они рычали как одержимые, Пелагея бросалась вперёд головой и пыталась укусить меня за руку, полагая, видимо, что я успел записать что-то важное. Голос звучал то громче, то тише: в разных частях дома по-разному. «Пыль наводнила тесный коридор», — донеслось до моего уха, и я не знал, что должно меня беспокоить больше: что за мной гонятся две разъярённые женщины, или что автор книги обо мне — бесталанный писака, допускающий такие нелепые несообразности. «Пыль наводнила!» О, как это взбесило меня! Я сжал кулаки и резко развернулся, намереваясь дать отпор, избить, стереть в порошок гонительниц и в их лице, вероятно, проходимца, что стоит за этим балаганом, но коридор был пуст.
От чрезвычайного напряжения в погоне я так сжал ладонь, что пластиковый корпус ручки треснул. Я отдышался, замер на несколько секунд, опустил взгляд — мои голые ступни были в пыли и неглубоких порезах. Выложив из кармана лист бумаги на пол, я склонился над ним, но вместо желаемого: «Пелагея. Пыль наводнила. Под топот и животные выкрики», вопреки собственной воле, записал: «1. Лиговский: Аудио-видео на Боровой. 2. Удельный рынок». От треснутого корпуса ручки откололся носик, я извлёк стержень и добавил уже умышленно: «Хан Бушлат».
В конце длинного, как сам сон, коридора показался тёмный прямоугольник открытой двери. Первой открытой двери, которую я увидел в этом доме. Медленно, стараясь не скрипеть половицами, я подошёл к ней и прислушался. Из комнаты доносилось посапывание. Я догадался, кого там увижу, поэтому страх отступил. У стенки напротив входа рядом с дорожной сумкой я увидел себя, спящего на ботинках. Я потрепал себя за плечо, и мы проснулись.
Здравствуй, ув. коллега! Да, пересказывать сны — моветон, — мои слова, но здесь иначе нельзя, и ты поймёшь почему.
Можешь представить степень моего отчаяния, раз я обращаюсь за помощью к человеку, перед которым и без того испытываю чувство вины, пускай вины частичной и несоразмерной обиде, но тем не менее наличествующей.
Не спрашиваю о твоих делах, здоровье, творческих планах, даже не спрошу о сыновьях — не потому, что мне это неинтересно, а потому, что боюсь не дождаться ответа. И это не фигура речи. Действительно боюсь.
Как ты заметил, к письму приложена рукопись в два а.л. и несколько газетных страниц. Последовательность ты восстановишь сам, я же расскажу, в чём состоит дело.
Три дня назад, то есть во вторник, к нам в редакцию пожаловал Борис Гребенщиков, гость неожиданный. Бородёнка его была заплетена в тонкую косу, в неё было вмонтировано несколько крупных бусин. Глаза его горели чёрным огнём за йодного оттенка линзами очков. Он попросил меня заняться одной «очень интересной» рукописью за хорошую плату. Тебе известно, что живу я, как любой нормальный литератор, мягко говоря, небогато, и от работы никогда не отказываюсь. Я разыграл, как умею, тяжёлые раздумья, просмотрел рукопись — десять машинописных страниц, не густо, — оценил общий рисунок текста, количество диалогов и их атрибуцию, величину абзацев, прочёл несколько предложений и пришёл к выводу, что передо мной вполне пригодная к редактуре проза, но вслух сказал: «Работы тут немеряно — не возьмусь, если платят меньше пятисот рублей за «авторский»». Гребенщиков ответил, что получу я гораздо больше — за спешку и специфику «редактуры». Штука в том, сказал он, что мне нужно будет обеспечить «первозданность» текста. Спрашивается, зачем вам тогда редактор? «Внимательно ознакомьтесь и приходите завтра на Боровую 26 в четыре часа». Аванс в полторы тысячи снял все мои вопросы.
Ты знаешь, как я отношусь ко всем этим примитивным попыткам сделать постмодернизм, тем не менее в первый же вечер я ударно поработал, сделал пометки (ты увидишь), составил небольшую рецензию и наметил «точки роста». Так, например, я хотел предложить автору ужать своего персонажа из филолога/видеопирата/гитариста до простого и понятного букиниста. Ведь это само напрашивается — книга про то, как кто-то ищет книгу, при чём здесь какие-то диски? Вот тебе пример того, как зрит в корень натренированный глаз. Я с первых страниц раскусил сюжетообразующий парадокс текста. К сожалению, это единственное, что я раскусил вовремя.
В положенный срок на Боровой я увидел молодого человека, упавшего в лужу, и догадался, о какой «первозданности» говорил Гребенщиков. Я по памяти отыграл свои реплики, на счастье их было всего три. Актёрская игра моего партнёра поражала. Я ещё подумал: дай такому телефонную книгу, он и её сыграет.
Оставался час до следующего «выхода на сцену», и я потратил его на заучивание своей партии. На то, чтобы вдуматься в происходящее, элементарно не хватило бы времени.
На Сенной я заметил (это важно для понимания всей картины) не одного, не двух, а четырёх (!) людей, играющих «рассеянного с улицы Бассейной» — в перчатках вместо обуви, сковороде вместо шапки, и всё в таком духе. Из этого я сделал вывод, что маршруты действующих лиц обозначены очень приблизительно.
Тогда же я догадался, что роль написана специально под меня: персонаж носил коверкотовое пальто, курил трубку и, если закрыть глаза на общую карикатурность, выражался в манере, действительно, близкой к моей. К тому же мой персонаж, как и Данила (партнёр), как и я сам, был родом из Кемерова. «Сакральный смысл» этого обстоятельства я не смог разгадать до сих пор, как не смог разгадать причин (ни мистических, ни практических, ни символических), по которым нужно было так изводить курящего человека. Всякого рода декодирования и дешифрования — по твоей части, в том числе и поэтому я пишу именно тебе.
В среду вечером курьер доставил мне письмо без обратного адреса. В конверте была вторая часть рукописи («День второй») и пять тысяч. Конечно, я обрадовался на мгновение, но потом перепугался: что же мне придётся сделать за такую сумму? Минут десять я даже заикался. Рукопись меня успокоила: всё те же «бродилки», немотивированные поступки, сгустки речи вместо персонажей и так далее. Зато я не мог не обратить внимание на то, что мой герой носил во второй день новое пальто! Сам бы я ещё много лет проходил в старом: есть нужды более непреложные, но раз так распорядился даритель… Ох, слеп человек, дёшев, если знать, за что покупать…
Эту часть рукописи я уже практически не правил. Я понял ситуацию так: существует некая группа людей, я в том числе, корректирующих, точнее даже удерживающих в условных границах спектакль. Значит, моей задачей было следовать сценарию и способствовать тому, чтобы он развивался в соответствии с первоначальным замыслом.
Большая часть нашего с Данилой разговора должна была происходить у меня дома. Предполагаемый зритель мог видеть нас в окно, но вряд ли наш разговор мог быть услышанным кем-то посторонним: никаких датчиков, микрофонов курьер мне не выдал. Выходило, что играть нам с Данилой предстоит друг для друга.
Подробнейшее описание моей квартиры, конечно, меня насторожило, но уже не испугало: в своё время у меня в коммуналке устраивался самый настоящий литературный салон, и с тех пор интерьер не слишком менялся. Столько пишущих особ побывало здесь, что если каждый написал бы по странице о моем жилище, хватило бы на два тома. Это в последние годы я существую затворником и принимаю разве что молодых авторов в частном порядке, как когда мы редактировали твою повесть (прости, названия сейчас не припомню).
И, чтобы не возвращаться к этому дважды, должен прояснить один момент. Мне передали, что у себя в Интернете ты обвинил меня в том, что моя рецензия на твою повесть (должен заметить, меня так и не указали редактором) — заказная, но такие заявления свидетельствуют о твоём полном непонимании современного литпроцесса. Ну кто стал бы платить за разнос такой мелкой птицы, как ты? К сожалению, за рецензии вообще скоро перестанут платить. Да, кое-какие цели я преследовал, скрывать не буду, но то цели имиджевые, а никак не финансовые. Там же, как передали, ты обвинял меня в том, что я воспользовался знанием «внутренних механизмов» твоей повести, но, поверь мне, если бы рецензию писали другие наши коллеги, она была бы не менее разгромной. Так что, можно сказать, я просто принял твой гнев на себя.
Я мог этого не делать, но повинился перед тобой, чтобы подчеркнуть этим самым серьёзность ситуации. Других грехов за собой не помню, в этом единственном раскаялся. Ув. коллега, тёзка, сдаётся мне, ты единственный сможешь поверить в произошедшее. Знаю скорости нашего почтамта и не надеюсь, что у тебя будет возможность поучаствовать в деле спасения моей жизни, но прошу, посодействуй спасению моей репутации: в случае скоропостижной кончины или внезапного исчезновения продолжи моё расследование и опубликуй это письмо в каком-нибудь московском или региональном (sapienti sat) журнале. Меньшее, чего хотел бы, — чтобы меня, члена союза писателей, автора четырнадцати книг прозы, в некотором смысле заслуженного литератора запомнили как «сумасшедшего с трубкой», который способствовал убийству земляка.
Ну так вот, рукопись. Я заучил свои реплики, не слишком в них вдумываясь (ибо незачем вдумываться в лопотанье), сдвинул кресло в центр комнаты, развернул каменного совёнка так, чтобы он глядел на кресло, сдул пыль с гитары и настроил её — вот и все приготовления. Ну, и купил пальто, само собой разумеется. Ладно, признаюсь, это не всё. В желании услужить я переусердствовал: позвонил в милицию с таксофона и сказал, что на станции «Достоевская» заложена бомба…
На следующий день, в четверг, т.е. вчера, я полтора часа кряду простоял в арке, поджидая Данилу. Еле сдерживался, чтобы не выйти к какой-нибудь витрине на Загородном с целью полюбоваться на себя в новом пальто в отражении. Ох…
«Сам ты сумасшедший!» — предписано было мне воскликнуть в ответ на мысли Данилы. Не слишком сценичный ход — отвечать на мысли, впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку… Я и воскликнул: «Сам ты сумасшедший!», переборов скепсис, но парень так отыграл реакцию, что я и впрямь стал сомневаться, играет ли он.
Я выдавал Даниле очередную фразу из сценария и наблюдал, как шевелится его мысль. Клянусь, содержимое чемодана для меня самого, как и для Данилы, было тайной. Все эти шуточки и экивоки я отвешивал исключительно в рамках сценария. Выпроводив Данилу, я испытал необъяснимое и неиспытываемое прежде чувство потери. Потери возможности отклониться от написанного с целью посмотреть, что будет — так мне казалось. Нет, желание брякнуть что-нибудь от себя присутствовало весь разговор, но я боялся испортить спектакль, боялся, что тот, кто «платит за музыку», как-то об этом узнает, разозлится и отстранит от дела и от своего кармана…
Третью часть рукописи я прождал до глубокой ночи, перечитывая «День первый» и «День второй». Чтение это вызвало во мне тревожность и болезненное возбуждение. Страшно подумать, но я стал прозревать систему лейтмотивов (если касательно этой поделки можно так говорить), извращённую логику автора и кое-какие (пользуясь твоим выражением) «внутренние механизмы». Например, уже при третьем прочтении я заметил, что в сцене на «Удельной» Гребенщиков не произносит слов с буквой «р». Разумеется, эта нелепая черта существует только в пространстве текста, иначе в первом уже разговоре со мной Гребенщиков должен был либо картавить, либо избегать этой буквы. Не могу сказать со всей уверенностью, что этого не было, но у меня, как у любого нормального литератора, обострено чувство слова, я бы заметил такую странность.
Что получается? По имеющимся в моём распоряжении первым двум частям ещё днём ранее вполне можно было догадаться, что замышляется злодейство, если бы я только разбирал повесть, что вообще-то является моим профессиональным умением, вместо того, чтобы заучивать её. Состояние моё настолько ухудшилось от этих мыслей, и разум помутился, что я всерьёз рассматривал такой вопрос: скажи я не «курильщик — себе могильщик», а, например, «брось чемодан и беги отсюда к чёртовой матери», что произошло бы скорее: Данила прекратил бы игру, или изменился бы текст, лежащий у меня в столе?
Но смерть персонажа — дело обыденное — персонажи дохнут как мухи, направо и налево от банального нежелания (неумения) авторов бескровно (гуманно, гуманитарно) решать свои проблемы. Ну, догадался я за двадцать страниц до финала, что главного героя убьют, ну и что с того? Взглянул бы на оставшиеся деньги, сказал бы себе: «Молодец! Малыми стараниями заработал на хлеб с луком и на бутылку вина» и самоустранился, но нет… По своей воле я принял «игру» и, по крайней мере в этой «игре», я уже был соучастником, пускай непреднамеренным, но тем даже хуже. Однако игра ли это?..
Тут-то мне и вспомнилась прежняя мысль об «ужатии» персонажа. Именно такая художественная нестройность (филолог/видеопират/гитарист вместо букиниста) и указывала на то, что Данила и вовсе персонажем не являлся и «ужать» его нельзя было ровно потому, что автору пришлось бы не просто переписывать характеристики героя, но и, собственно, искать другую подходящую жертву.
Несколько слов о Даниле. Моментами он производил впечатление человека под гипнозом. Или даже так! — под воздействием паразитических организмов, которые зомбируют хозяина и ведут к смерти в особых, выгодных паразиту, обстоятельствах. (Эта неожиданная ассоциация возникла у меня прямо сейчас, в процессе письма. Пожалуй, в ней есть зерно истины, обрати на неё особое внимание.) Но, если отбросить всякие домыслы и судить объективно, Данилу можно было бы назвать, да, чудаковатым, да, легковнушаемым, но определённо симпатичным молодым человеком без каких-либо видимых патологий, ненормальностей и прочих виктимных, так сказать, признаков. К тому же, сильно наслоилось первое впечатление о нём как о высококлассном актёре, и даже поставив под сомнение этот факт (игры, актёрства), от пережитого заблуждения осталось стойкое положительное впечатление. (Ув. коллега, да простишь ты мне эту и прочие уже бывшие прежде и будущие в будущем тавтологии, но я совершенно не в том состоянии, чтобы заботиться в эту минуту о стиле.)
Не осталось сомнений, что третьей частью рукописи мне не дождаться. К двум часам ночи я достал все справочники, карты и путеводители по Петербургу, которые имеются в моей библиотеке, и принялся искать если не точные координаты, то хотя бы упоминание Дома с химерами. Здания с химерами есть, наверное, в каждом крупном европейском городе, в Киеве, например, точно есть, в Петербурге и подавно — так мне казалось. «Готический особняк», — сказано в тексте, сказано, нужно понимать, в авторской речи (то есть ошибку в данном случае не отнести к некомпетентности персонажа — если кто и некомпетентен, то сам автор). Уж тебе-то как архитектору наверняка понятно и без всяких справочников — готики в Петербурге нет и быть не может, но у меня на выяснение сей тонкости ушло без малого два часа. Нелёгок труд герменевтов! Как понять — банальная ошибка перед тобой, многозначительная неточность, замысловатое иносказание или откровенное введение в заблуждение? Я заснул за заваленным столом, уткнувшись в книги, так и не придя к ответу.
Ув. коллега, тёзка, в начале письма я рассказал тебе сон в таких подробностях, чтобы ты понимал, почему сегодня я не мог остаться дома и переждать завершение истории в стороне.
Было одиннадцать часов, когда я очнулся ото сна. Не из страха или глупости, а скорее ради спокойствия я оглядел свои ладони, ступни — они были чисты — и проверил рукопись «Человек из Кемерова» — новых страниц, повествующих о моей кончине, не прибавилось.
Нужно было соображать скорее. Дом с химерами — что это? Некое мифическое место мечт и грёз, не существующее в реальном мире, место вроде Шамбалы или Петушков, к которому Даниле не суждено добраться? Или же… Была ведь такая ленинградская рок-группа «Химера», вполне себе авангардная и экспериментальная, чем-то связанная, насколько мне известно, с «Аквариумом», а значит, и с самим Гребенщиковым… Попадание сразу по нескольким пунктам. Должна быть какая-то репетиционная база, на которой они собирались…
Ты будешь смеяться, но из дома я вышел, неся над собой эмалированный таз. «В любую секунду на голову может упасть кирпич». В любую секунду, да не на каждую голову он станет падать. «Вероятно, я стал человеком глубокого посвящения», — отсмеивался я, но таз держал крепко. Дождь колотил по дну, в ушах звенели микровзрывы, будто миниатюрные нацисты бомбардировали мой внутричерепной Ленинград.
Компьютерный клуб на Разъезжей был открыт, но Интернет-соединение отсутствовало: злосчастный шторм оборвал связь. Администратор клуба был похож на человека, причастного к рок-субкультуре — длинные волосы, чёрная выцветшая футболка с полустёртым психоделическим рисунком. Да и не в одежде проявлялась эта причастность, а в особой помятости физиономии и озабоченном, но пустом взгляде. Цепляясь за малейшую утлую возможность, я спросил, не поклонник ли он группы «Химера» или, может, знает таковых. Я объяснил, что ищу некое ключевое для группы место.
— Так… Ну, могила Старкова в Выборге, а повесился он здесь — рядом, — на Бакунина пять.
— То что надо!
— Все репетировали, а он на чердаке — фить — того… — администратор закатил глаза и высунул язык.
«Оно!» Кажется, я приподпрыгнул от радости, и не исключено, что сделал дурацкий, совсем не свойственный мне жест: показал опешевшему администратору большой палец.
У выхода он окликнул меня.
— Это всё равно не то!
Я обернулся.
— Не то, что вы ищете, господин «вчерашний сумасшедший».
Сердце должно было забиться в глотке, дыхание остановиться, уши покраснеть, колени задрожать, но всего этого не произошло. Я лишь с удивлением отметил, насколько эта реплика и вся ситуация в целом была созвучна с моим сном. Значит, я недооценивал масштаб заговора…
Дождь усилился. Не знаю, как Данила умудрялся разглядывать лица прохожих при такой непогоде в это утро, различать в лицах какие-то эмоции и настроения. Догадываюсь, что и на меня таращились окружающие: сложно не обратить внимание на мужика с тазом на голове, бегущего по Невскому, расталкивая людей. Другая мысль ускоряла мой шаг: «Всем им прекрасно известно, кто ты, почему ты в таком виде и куда бежишь». Последнего же не знал я сам.
Ноги принесли меня на Площадь Восстания. Только перед светофором на Гончарной, ожидая зелёного сигнала, я заметил, как ускорилось время. Готовясь пройти к Московскому вокзалу, я сказал сам в себе: «Здесь всё началось, здесь должно и закончиться». Как ты понимаешь, ув. коллега, я предположил в «Человеке из Кемерова» кольцевую композицию. И совершенно напрасно. В поисках чего-нибудь примечательного я обошёл вокзал вдоль и поперёк, внутри и снаружи. Примечательного было много, но всё не то: из-за перебоев в движении поездов там творился настоящий переполох, я не знал, на чём задержать внимание.
Пришла мысль разыскать Андрея. Компаний, производящих мясные изделия, достаточно крупных, чтобы держать штатного пиар-менеджера, не так уж много в Петербурге, но такие варианты — стрельба по воробьям из пушки. Однако как-то ведь узнал вчера Андрей о судьбе Данилы, узнал наверняка, при том что позавчера мог только догадываться. Где-то ведь он получил подтверждение своим опасениям: «…По дороге я понял, что не получится…» Ну конечно!
Сколько ненужных телодвижений я совершил, прежде чем догадался спуститься в метро… Я понимаю, на то и был расчёт: запутать меня, сбить с толку. Но, забегая вперёд — к тому заветному моменту, когда сегодняшняя глава оказалась у меня в руках, — я спрашиваю: к чему нужна была вся эта свистопляска с музицированиями, прослушиваниями, химерами? Ради того только, чтобы я унёсся подальше от своего дома, от кладовки, чтобы Данила благополучно забрал роковой чемодан? Так спросили бы моего совета, я бы устроил всё в тысячу раз изящнее…
В подземке ко мне подошёл мужчина, одетый в точности как я. Он спросил, вы Владислав с ударением на «и», а отчества не надо? Я сказал, готовясь к худшему, храбрясь и мужаясь, что да, я Владислав. Он сказал, я тоже. Потом смущённо кивнул на мой эмалированный таз и добавил, что выбранной роли лучше придерживаться всецело, не допуская примесей от других персонажей, ибо нельзя же быть сразу всеми — выйдет путаница. Из прибывшего поезда двинулась толпа, в которой я выделил ещё несколько Владиславов, как минимум четырёх хан-бушлатов, трёх милиционеров, — уверен, фигурировали и остальные, но их было значительно тяжелее различить в движущейся толпе. Что же вы пытаетесь мне внушить, спросил я собеседника, что вы — это я? Какая глупость… что мы — это Владислав? Мужчина извлёк из кармана пальто трубку и стал неумело с ней управляться. Было очевидно, что у собеседника отродясь не было привычки и навыка курить трубку. Дайте сюда, не выдержал я и взял её в руки. Она была новой, необкуренной, а лжея набил её до краёв, да ещё и неразмятым табаком. Собеседник тушевался и смущался, глядя на мои действия. У меня в голове звенела единственная мысль: «Какого чёрта я трачу время?» Получив трубку обратно, мужчина, нужно сказать, совершенно на меня не похожий, идиотически улыбнулся.
— Спасибо… Даже не знаю… Вам нужна программка? У меня лишняя… — сказал он и достал из-за пазухи газетные листы (эти самые, которые я приложил к письму).
«День третий»: «Данила проснулся совсем рано после беспечного сна…».
Я весь ушёл в текст и не заметил, как и куда исчез лже-я, впрочем, это было неважно. В третьей части повести не нашлось места моей персоне — это первое, что я отметил. «Что же, тем свободнее я буду чувствовать себя в этом противостоянии», — подумалось мне, но я осёкся, — с каких это пор моя свобода зависит от чьих-то на меня планов? И в ответ: и ныне, и присно, и вовеки…
«…Размышлять о Боге в такую минуту, как, впрочем, и в любую другую минуту…»
Данилу, как я верно, но слишком поздно догадался, действительно ждала смерть. Сейчас, прикинул я, подходя к эскалатору, он уже волочит чемодан со старухой где-нибудь по Рубинштейна — я ориентировался во времени по ливню, который застал Данилу выходящим из моей арки, а меня — выходящим из компьютерного клуба. Мне потребуется десять минут, чтобы добраться до Аничкова моста и перехватить парнишку у этой шайки-лейки душителей. Должен успеть.
Я встал у правого поручня, приводя мысли в порядок, снова развернул газету с третьей главой — убедиться, что ничего не упускаю. Я намеревался заглянуть сразу в конец, но задержался на описании метрополитена, а потом… Этим же эскалатором Данила поднимался сегодня утром, эскалатором длинным, как час перед казнью, длинным, как… лестница Иакова… (Нужно ли тебе объяснять, ув. тёзка? Наверное, нужно. Однажды Иаков боролся с Богом, отвоёвывая себе то, чего Бог не планировал ему предоставлять. То есть, по сути, он боролся с предопределением.) И этот образ, как бы походя оброненный автором, адресован был лично мне и являлся не иначе как издёвкой, плевком.
Вне себя, я побежал по высоким ступеням эскалатора, люди испуганно теснились к поручням, пропуская. Ноги забились на десятой же ступени, стали ватными, чужими. Примерно на двадцатой закружилась голова, а глаза перестали видеть, но я не сбавлял скорости. Как бы в отчуждении я пытался прислушиваться к своему дыханию, но вместо него слышал скрип пилы о дерево. На тридцатой ступени, поразительно, я не чувствовал уже ничего, кроме тяжести в плечах и покалываний онемения в ладонях. Куда же подевался мой эмалированный таз?
Я не остановился ни в вестибюле, ни на улице, словно боялся, что, остановившись, растворюсь за ненадобностью. Но нет, это соображение, едва появившись, было высмеяно мной. Насколько нужно быть легковнушаемым, чтобы поверить в иллюзорность собственного существования? Я, человек пишущий, конечно, понимаю, что всё — текст, последовательность символов, но ведь не в буквальном же толковании! Мои мышцы ноют взаправду, ноги взаправду заплетаются, в любую минуту я могу рухнуть на мокрый асфальт здесь, на Невском, и у меня взаправду хлынет всамделишная кровь из носа, — о какой иллюзорности может идти речь? И другое: на какую бы глубину памяти я ни опустил свой мысленный взор, всюду он встретит подтверждение моего бытия — вот я держу в руках сигнальный экземпляр своего дебютного романа, и если мне захочется пристальнее всмотреться в эту сторону, я увижу себя за пишущей машинкой в родительском доме на каникулах после первой сессии, настукивающим первые строки, да, это строки, слова, но вот я гляжу в другую сторону и вижу женщину из плоти и крови, бывшую со мной в зиму девяносто шестого, за ней другая женщина, и ещё одна, и ещё одна, а вот я, совсем ещё щенок, получаю снежком в лицо от матери — она бросила его, думая, что я увернусь, но я отвлёкся, засмотрелся на что-то, а когда она испуганно окликнула меня, я повернул голову снежку навстречу. Как меня может не быть? Да, я могу поверить, и вообще, я склонен верить, что являюсь плодом чьей-то фантазии, винтиком в механизме, переменной в уравнении, я согласен оказаться хоть грязью под ногтями, но того, и это главное, того, кто во всём, в каждой мелочи, в каждой характеристике многократно превосходит меня. И эта мысль, едва появившись, была мной высмеяна: ох уж эта дерзость на уровне метафизического и абстрактного! Почему же в миру ты окружён сплошь бездарностью, пошляками и болванами, зависишь от них, заискиваешь перед ними, служишь им? Вызванная этими мыслями ярость (я не преувеличиваю, пуская в ход это слово) вспыхнула, обжигая онемевшее было тело. Явись в эту секунду сам Господь Саваоф, я бы схватил его за шкирку и бросил бы под колёса проезжающего автомобиля с его насильственным, пусть даже самым идиллическим, предопределением. Злоба на автора «Человека из Кемерова» спроецировалась, как ты понимаешь, на Бога, к которому, в общем-то, раньше у меня не было никаких претензий. Я удивился своим мыслям, — как это вильнули они таким непривычным манером, что добрались до самого Бога? С большим успехом передо мной мог оказаться наш главред — редкостный идиот и бездарь, — тупее него только его редакционный план. Передо мной мог возникнуть президент с его наплевательским отношением к регионам, и это, пожалуй, одним движением подстелило бы под происходящее политическую метафору (жертва регионов ради столиц). Но нет — сам Бог пришёл мне на ум. И в этой ярости я впервые за жизнь посмотрел на Него незамутнённым, как бы очищенным от предубеждений взглядом и увидел Его, нет, не равным себе, увидел Его старикашкой, который по молодости нагородил банальность на нелепицу, несправедливость на жестокость, красивость на гротеск и теперь прикидывается мёртвым, чтобы не отвечать на вопросы своих детей, давно уже превзошедших его и в разумении, и в любви, и в гуманизме. Нынче он не столь словоохотлив, как в ветхозаветные времена, потому что боится показаться дураком. Справедливо боится.
Да, ув. коллега, увидев Данилу в окружении десятка людей, увидев его в точности так, как было описано в повести, — ссутулившимся над книгой и с сигаретой в руке, — меня хватило только на выкрик: «Данила, нет!», на выкрик, из-за которого (как же непредсказуемо ведёт себя обессиленное тело!) я потерял координацию, не успел выставить нужную ногу вперёд и рухнул на землю, не добежав каких-то двадцать метров. И потерял сознание. Процессия проходила здание областного суда, когда в чувства меня привела девушка с нарисованными жидкими усиками, одетая в точности как я.
В падении, как оказалось, я сильно ушиб бедро, но и без этого я вряд ли самостоятельно осилил бы дорогу домой: ноги были как пришитые от манекена. Девушка проводила меня до самой двери. Заглянув в квартиру, она спросила: «Вы, что ли, прототип?»
Я сел за это письмо вечером пятницы и писал его без остановки до настоящего момента. Минуту назад начался понедельник, и если я хоть что-то да смыслю в сюжетостроении, моей жизни больше ничто не угрожает (если вообще угрожало). В конце концов, с полной уверенностью я могу говорить только о достоверности тех сцен, в которых участвовал лично, а в них не было ничего, кроме игр и шуток. Может, актёр, так блистательно сыгравший Данилу, после нашего с ним разговора у меня дома сел в автомобиль (где-то под окном и припаркованный), выехал на Московский проспект, а оттуда направился в какой-нибудь спальный район к жене и ребенку, чтобы переждать ночь и на следующий день сыграть на Фонтанке короткую сцену без слов.
Сейчас я запечатаю конверт, наклею марку и опущу его в почтовый ящик здесь, на Загородном, мне нужно будет пройти буквально полквартала. Если вдруг тебе интересно, никакого «равнодушного» и «поторапливающего» взгляда на себе я не чувствую: ни читательского, ни божественного. Но есть другое необычное ощущение, и, кажется, оно было всегда: тяжесть в пишущей ручке, чувство, будто к её кончику подвешена гирька. Как тебе такое нравится, уважаемый коллега, мне пытались внушить (если вообще пытались), что после слова «нет» меня нет?
[1] Лузга — это же по умолчанию «много»: «выплёвывались, как лузга» (1)
(1) Сноски сделаны Владиславом В. синей шариковой ручкой на полях рукописи и поперёк неё. После основной части текста приведено его письмо (наст.изд., стр. 46). Вычёркивания, перестановка слов, предложений и абзацев, предложенные Владиславом В., не учтены. — Прим. ред.
[2] * Совершенно неуместная реминисценция. Зачем?
[3] Не бормотал, так не пишите об этом.
[4] В туманы лимана манили Данилу…
[5] Ах, какой автор оригинал! Ах, какой автор оригинал! Вымарывайте всё кокетство…
[6] По логике повествования читателю не должно сообщаться, о чём подумал Андрей. Вы избрали внутреннюю фокализацию с позиции Данилы, читатель смотрит его глазами, слышит его мысли. Ничьи другие
[7] Как-нибудь определитесь уж с оформлением прямой речи, приведите к общему виду.
[8] Забавную игру вы затеяли. Что, впрочем, не позволяет вам игнорировать законы построения художественного текста.
[9] Совершенное разложение на стилистическом уровне. Преувеличена вербальная сторона мысли. Возможно, стоит подыскать иной способ передачи мыслеобразов, но это требует другого уровня мастерства.
[10] Несколькими страницами ранее та же дверь, как я понимаю, открывалась наружу. Авторский умысел или же ошибка? Повнимательнее.
[11] Откуда в вас столько желчи, ненависти к своим персонажам (а в вашем случае — к живым людям)?
[12] Обидеть благодарностью? Любопытно, как это?
[13] No comments. Если вам нравится выглядеть глупо, оставляйте.
[14] А вот не надо было писать про эти усы, может, их бы и не было!
[15] * Столбы? Я называю их «колоннами»!
[16] Аккуратнее, молодой человек.
[17] Совсем не то слово…
[18] Образ интересный, но идёт вразрез с тем, что написано выше про то, как ежедневно создаётся новая структура. Люди ведь не видят рынок с высоты птичьего полёта. Чтобы рассаживаться вокруг центра, им бы приходилось искать своего рода «киблу», прибегать к использованию компаса или каких-нибудь других астрономических приспособ.
[19] Нечто в духе «Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она». Где-то на грани тавтологии и бессмыслицы.
[20] Почему бы просто не назвать адрес?