Опубликовано в журнале Дружба Народов, номер 12, 2019
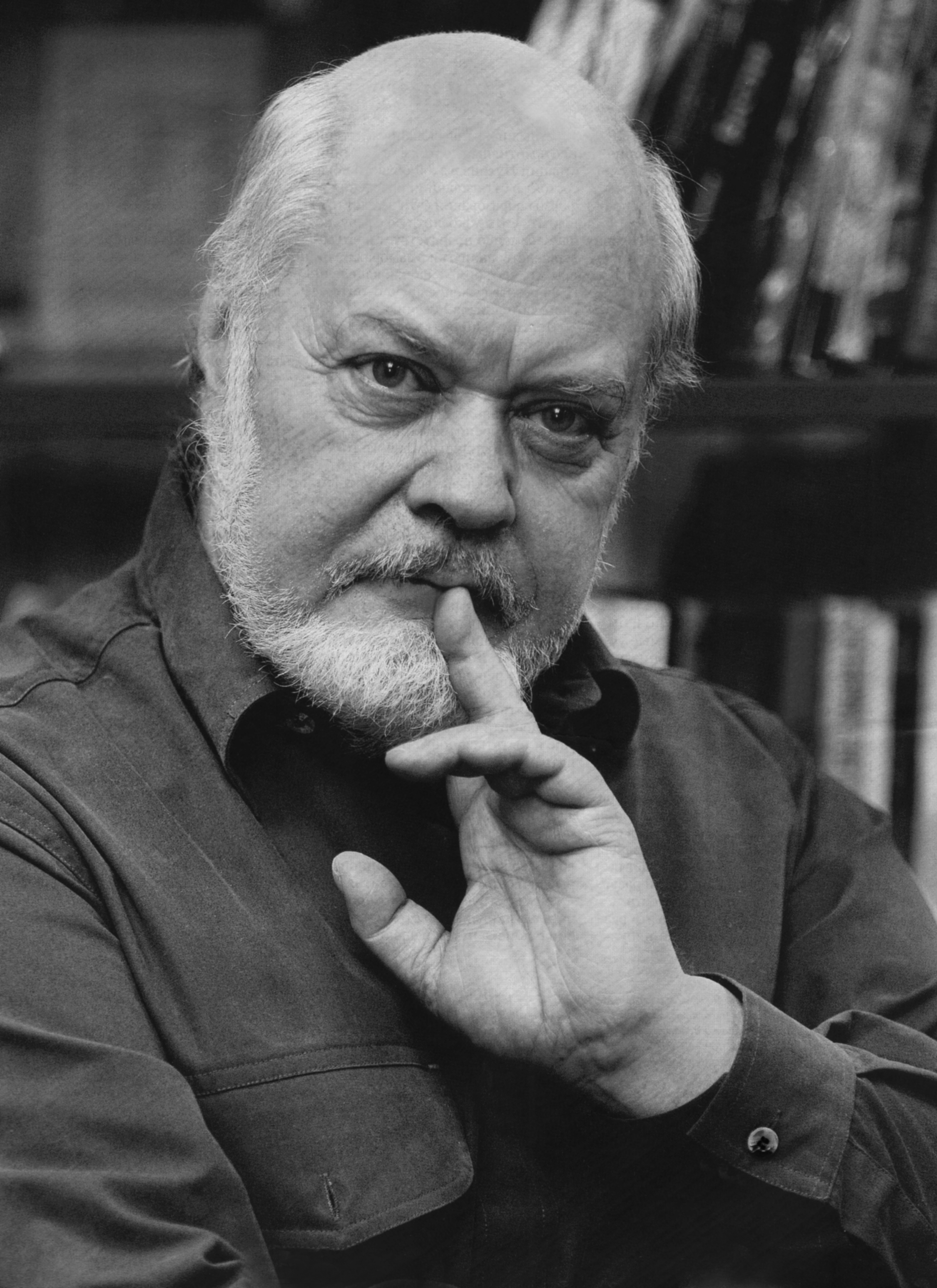
Никакими словами не выразить нашего горя.
Лев Александрович Аннинский. Наш патриарх. Наша гордость. Наш любимый друг, советчик, утешитель. Никогда больше он не войдет в редакцию со своим неизменным рюкзачком и не будет встречен радостными, искренними, приветливыми улыбками. Но светлая добрая память о нем останется с нами навсегда. Как же нам будет его не хватать!
Сергей Надеев, Ольга Брейнингер, Ирина Доронина,
Елена Жирнова, Наталья Игрунова, Галина Климова,
Владимир Медведев, Иван Рудинский, Александр Снегирёв
Заза Абзианидзе
С комком в горле пишу эти строки: непонятно, почему известие о смерти 85-летнего человека может потрясти. Или где-то, в глубине души, тех, кого мы любим — считаем бессмертными и, невзирая на годы, не воспринимаем их стариками. В моем восприятии время никак не меняло экспансивного Льва Александровича. А время это исчисляется половиной столетия.
Наша «литературная дружба» началась на заре 70-х годов прошлого века на семинарах, посвященных новейшим тенденциям и произведениям грузинской литературы, которую Лев Александрович пристрастно изучал и неустанно пропагандировал. Сама атмосфера этих семинаров, проводившихся на нашем черноморском побережье, отличалась редким сочетанием интеллектуальной насыщенности и какой-то юношеской легкости общения. Не буду здесь перечислять известнейшие имена хозяев и гостей семинара, но как не вспомнить эмоциональные спичи Льва Аннинского, задающие тон всей дискуссии.
На литературных форумах (уже в Москве) я не раз с восторгом слушал, как Лев Александрович уговаривал того или иного редактора/издателя прочитать понравившийся ему перевод, утверждая, что на эту вещь откликнутся далеко за пределами наших границ, и они не имеют право воспрепятствовать будущему триумфу этого шедевра. Навсегда запомнилось и то, как он торжествовал, когда его провиденциальные «заклинания» сбывались! Мы часами говорили о литературе, иногда спорили (наш заочный и, увы — последний спор по поводу романа Отара Чиладзе «Годори» был опубликован в «Дружбе народов» два года тому назад).
Я редко встречал человека, для которого жизнь начиналась и заканчивалась бы литературой. Это качество обуславливало и его совершенно специфический пафос, его романтизм, но и ярость его эскапад. В любом случае — он был неповторим, и счастье общения с ним я (так же, конечно, как и многие его близкие и далекие друзья) отношу к самым счастливым дням свой жизни. Шестогоноября этого года русская критика потеряла своего патриарха, а грузинская литература — преданного и незабвенного друга.
Тбилиси
Игорь Волгин
Последний раз я навестил его 19 октября. Он был уже очень слаб, с трудом говорил, но пытался шутить и даже немного полистал принесенную мной книжку. Мы вспомнили нашу первую встречу — в году, кажется, 1963-м, в редакции «Знамени», где я (не ведая, что он находится тут же) громко восхищался какой-то его статьей.
Минуло более полувека.
В эту последнюю встречу он поблагодарил меня за только что вышедшую программу о нем («Игра в бисер»), которую он, слава богу, успел посмотреть. Прощаясь, я хотел было повторить сказанные мной в той передаче слова — о горячей любви к нему, о том, как много он значил в моей (и не только моей) жизни. Но — сумел лишь поцеловать его руку.
Уходит в ночную темь
последний из могикан.
Его ледяная тень
блуждает по облакам.
Слетают с дерев листы
на воды великих рек.
И все сожжены мосты,
ведущие в прошлый век.
Давид Маркиш
Он был острым, проникающим человеком, владевшим редким и драгоценным даром — умением диагностически оценивать произведения литературы. Без него пространство русской литературы нашего времени выглядит неполным.
Евгений Сидоров
Спорить с ним можно и нужно. Не полюбить — невозможно. Лев Аннинский неотменим, будучи уникальным стилем и жанром одновременно.
Что-то яркое, писаревское, вспыхнуло и надолго запомнилось в «Ядре ореха», его первой книге. Время раскалывалось, и мы, младшие, выбрали праздничность шестидесятников. Но Лёва не принадлежал им по сути, а только по освободившейся форме, которая очищала смысл сказанного от налипших стилистических догм и моральных нравоучений.
Имя его останется в истории нашей культуры. Блестящее перо, независимый нрав, глубокое чувство литературного товарищества, не поддающееся идейно-партийным предпочтениям.
Дорогие «дружбинцы»!
Мы глубоко опечалены вестью об уходе из жизни Льва Александровича Аннинского и вместе с вами скорбим.
Когда уходит личность такого масштаба, все ее мысли и дела воспринимаются с большей остротой и четкостью. Именно такую щемящую боль в сердце и одновременно глубинное понимание рассуждений о дружбе народов вызвала весть о кончине Льва Алексанровича.
Вспоминается встреча с ним в Доме творчества Переделкино в декабре 1998 года. Тогда журнал Дружба народов» праздновал свое 60-летие. И уже тогда на вопрос «быть или не быть» этой самой дружбе между народами он с твердой убежденностью говорил: «Быть!» И уточнял — быть не «вместе», а быть рядом. Чтобы мы могли достойно, на равных, входить в контекст мировой литературы. И на протяжении всей своей творческой жизни не оставлял без своего искреннего внимания эстонскую литературу. Он писал о творчестве Яана Кросса и Энна Ветемаа и отзывался на книги молодых писателей новой эпохи Андруса Кивиряхка и Эмиля Тоде, знакомился с новинками, вникал в суть национальных проблем, проявлял чуткий интерес к новым веяниям, поддерживал издания на русском языке в Эстонии… Приезжал в Эстонию, встречался с писателями, переводчиками, редакторами, советовал и сам учился познавать и понимать эстонский национальный характер.
В 2019 году журнал «Дружба народов» отмечал уже 80-летие, и на этом торжестве рядом со многими литературными журналами присутствовал и наш «Таллинн».
Мы склоняем голову в память о Льве Александровиче Аннинском, который был крепкой связующей нитью между нами.
Редакция журнала «Таллинн»:
Нэлли Абашина-Мельц, Татьяна Верхоустинская, Людмила Еланская, Артур Лааст, Этэри Кекелидзе, Борис Тух, Марина Тервонен
Альгимантас Бучис
Лев Аннинский.
Вот и остались всего два слова, а по отчеству в Литве не зовут.
Когда-то я не знал его в лицо, но знал его статьи. Я приехал, наверное, около середины семидесятых в Москву, пошел искать редакцию журнала «Знамя», где тогда работал Аннинский. Хотел ему подарить книжку своих стихов. Зачем? Сейчас не могу понять, — книжка малюсенькая, на литовском, никому там не понятном языке, автор никому не известен ни в Москве, ни в Литве (кажется, это была первая или вторая моя книжка?). Но это была искренняя моя дань талантливейшему критику, лучшему из всех мне тогда известных русских ценителей литературы.
Я нашел редакцию в каком-то, помнится, полуподвальном помещении. Аннинского на месте не было. Мне посоветовали оставить книжку на его рабочем столе. Не представляю, чтоон подумал, когда и если ее нашел. Позже мы об этом никогда не вспоминали. Но мое чувство восхищения не менялось, а лишь крепло на протяжении более двадцати лет, когда я постоянно приезжал в Москву и заходил в редакцию журнала «Дружба народов», где Аннинский служил, а я числился членом редколлегии от Литвы. На этом рабочем посту Аннинский тоже редко засиживался. Забегал, здоровался, расспрашивал о знакомых, брал и оставлял тексты, но, казалось, он все время спешит поскорей возвратиться в незримый для нас мир прочитанных чужих и еще не записанных собственных слов. Иногда мне казалось, что ему тесновато в тогдашней русской литературе, которую он страстно оберегал от царившей в ней банальности. И он, как неутомимый золотоискатель, карабкался на литературные горы Кавказа, писал о балтийских литературах, пытался по-новому раскрыть самобытность и рубежи мировосприятия польских, немецких, западноевропейских поэтов и прозаиков. Насколько уникальными были эти критические откровения? Один пример. В 1982-83 годах он написал книгу о литовской фотографии. Я был очарован ею еще в машинописном варианте, сегодня это хрестоматийный, постоянно у нас цитируемый текст о нескольких поколениях, стилистических направлениях и ярчайших им выявленных мастерах «литовской школы», как он тогда ее окрестил — и отнюдь не ко всеобщему удовольствию…
Государственные и жизненные перевороты разграничили, разделили судьбы писателей бывшего Советского Союза. Уже не поймешь — кто, где и как? Но существуют визы, можно встретиться. И вот в декабре 97-го Аннинский позвонил мне уже из Вильнюса, мы увиделись, пошли в памятное для многих кафе «Неринга». Говорили о том, о сем, о тех и других. Но эта встреча запомнилась мне надолго; думаю, навсегда. Так получилось, что я рассказал Льву, как в январе 1991 года у себя на веранде, в уединении, попивая разбавленный джин, я на маленьком костерке в буквальном смысле обратил в пепел свои «серьезные» книги, монографии и статьи, оставил только стихи и прозу. В те же дни, на другой стороне реки, у подножия сейма на грозных ночных кострах люди жгли советские партбилеты, а в свободной печати впервые целиком появились тексты секретных договоров Риббентропа и Молотова. Рухнули прежние мифы. А до этого все наши историки, литературоведы и критики, чьи работы в то время печатались, хорошо затвердили основные табу, нарушить которые было смерти подобно. Никто не напоминал: Литва была принуждена Сталиным и его подручными в 1939 году впустить Красную армию на свою территорию; послевоенное народное сопротивление было подавлено советскими карательными отрядами лишь к середине 50-х. В наших лучших книгах господствовал так называемый «эзопов язык», а самые верткие нагло врали, корежа историю. Те, кто не шел на это, сидели по лагерям или попросту не могли напечатать ни одну свою строчку…
Но что там отдельные люди! Многочисленные институты с огромными штатами специалистов десятилетиями подлаживались под кремлевские директивы, тщательно фальсифицировали историю Литвы и ее культуры, искусства, литературы, внедряли ложь во всю образовательную систему — от начальных классов до выпускников высших школ. Но разве кто-нибудь ныне публично признался в этом? Или хотя бы извинился за эту многодесятилетнюю ложь?..
Примерно об этом я рассказывал, а Лев молчал. Потом мы заговорили о чем-то, наверное, о здоровье, и он сообщил о своем купании с «моржами», зимой, на открытом воздухе… А в конце ужина, там же, за столом, он достал из сумки и надписал мне свою новую прекрасную книгу «Серебро и чернь». Я прочитал надпись и тоже умолк. «Дорогой Альгис! Ты — один из самых решительных и стойких людей, встреченных мной в жизни. Прими эту книгу в знак моих чувств к тебе. Я верю, что ты более не сожжешь ни одной своей строчки. Salut!» И стремительная подпись: Л.Аннинский… Ни упрека, ни похвалы. Слово Учителя в нелегкий для меня час покаяния за ложь — по неведению, по глупости, по непростительной доверчивости к отраве официозных мифов…
Еще раз, уже спустя двадцать два года, спасибо Тебе, Лев.
Вильнюс
Ефим Бершин
И жизнь, и даже само рождение Льва Аннинского — оправдание и объяснение Российской империи. Несмотря на то, что большую часть его жизни империя эта называлась Советским Союзом. Действительно, где еще, как не в имперской послереволюционной Москве, могли встретиться и соединить свои судьбы украинская еврейка и донской казак, чтобы породить на свет Божий выдающегося русского критика, литературоведа, историка, философа? Для этого, как говорил сам Лев Александрович, нужно было, чтобы исчезли национальные и сословные перегородки. Впрочем, для Аннинского была важна не столько политическая, сколько культурная империя, где сплетались воедино культуры разных народов.
Лёва умел слушать, умел любить и быть лояльным к различным проявлениям человеческого духа и мысли. Даже самым микроскопическим. Мы познакомились в 1979 году, но не в Москве, а в Коми, в Сыктывкаре, где я тогда работал после университета, а он приехал читать лекции. Там же в те дни в местном университете организовали поэтические чтения местных авторов. Я, в то время молодой поэтический сноб со слабыми стихами, слушал с кривой физиономией, а сидящий рядом Аннинский был чрезвычайно внимателен, пытался ничего не упустить. А вдруг что-то мелькнет! Это был урок.
Лично мне он был близок тем, что не примыкал ни к каким литературно-политическим группировкам. Он был абсолютно самостоятельным, самодостаточным мыслителем. Чаще всего такие люди вызывают неприятие, а то и ненависть с двух сторон, поскольку жива еще у нас сталинская формула: кто не с нами — тот против нас. Но Аннинский именно со всех противостоящих сторон вызывал уважение и даже любовь. И, в общем, понятно, почему. Потому что главным для него были литература и искусство. А искусство, в отличие от политики, сближает. Не случайно именно Лев Аннинский изрек: «Вся эта цивилизация — пусть она исчезнет к чертовой матери, но музыку — жалко». Вот для сохранения музыки он жил и работал.
Олжас Сулейменов
Уход Льва Аннинского еще раз горько напомнил об исходе легендарного поколения, входившего в литературу в 60-е годы — в первое десятилетие без Сталина. В оттепель, в самое счастливое для советских культур время. Прежде всего для русской. Лучшие стихи, романы, спектакли, фильмы! Прорывные статьи литературных критиков!
И Льву Аннинскому легко писалось тогда. Он сохранял этот весенний воздух и стиль в статьях во всех следующих десятилетиях.
Я не виделся с ним больше тридцати лет. Как и со всеми другими своими коллегами из других республик. Приобретенная «независимость от Москвы и друг от друга» для многих республик приобрела характер самоизоляции, что сказалось на наших судьбах и литературных связях. Но какие-то работы Льва до меня доходили.
Мне понятно, как будет не хватать возрождающейся литературе (а она обязательно возродится!) этой стремительной вязи мысли и поэтической образности письма Льва Аннинского.
Прощай, Лёва.
Алма-Ата
Михаил Кураев
Мы были друзьями и не были приятелями. В приятельство обязательно примешивается повседневность, в том числе и литературный быт. Судьбе было угодно, чтобы мы общались в небудничные дни нашей литературы, будь это «Литературные встречи в русской провинции» у Астафьева в Красноярске, литературный фестиваль в Иркутске, в Перми, юбилеи достойнейших журналов в Питере и в Москве, и, конечно, уже трудно представить без него встречи в Ясной Поляне…
Участие Льва Александровича Аннинского сообщало любому литературному собранию значительность, опять же скажу, не будничность. Его выступлений, его суждений и оценок ждали читатели, с напряженным вниманием ждала и пишущая братия. Он умел отстаивать свою позицию, свой взгляд на вещи с достоинством, убедительно и благородно. Читаю в биографической справке о нем: «Он выбрал специальность — русская литература». Он любил русскую литературу, а любовь не выбирают, это она его выбрала. И любовь эта сознавалась им и как поклонение и как обязанность защищать свою избранницу от фальши, от пошлости, от услужения временному и преходящему, всегда находившему оправдание в известном тропаре: «в такие времена живем». Для Льва Александровича не кончались времена Пушкина и Писарева, Белинского и Толстого, а его книга о современных бардах свидетельствует о чутком внимании ко всему подлинному, искреннему, живому…
Он встретил меня с первых шагов на литературной стезе, ободрил, строго предупредил о том, как легко потерять лицо. Он имел на многое право, потому что сам был и останется благородным, талантливым и верным служителем отечественной культуры, искусства и, в первую очередь, конечно, литературы.
Владимир Некляев
Собака с фонариком
«Мне казалось, если я займусь белорусской литературой, в моей жизни что-то переменится», — признался он в одном из интервью.
«Кто там жив еще из наших?..» — спросил он, когда свиделись (в последний раз) на его юбилейном, восьмидесятилетнем вечере в ЦДЛ. А «из наших» в Беларуси, где материнские корни Аннинского, были для него Василь Быков, перед которым, по собственному его признанию, он робел; Алесь Адамович, который выяснял при каждом удобном (застольном) случае, кто же он есть, Лев Александрович Иванов-Аннинский, еврейский казак, или казацкий еврей; Виктор Козько, которого Лев Александрович называл не иначе как «большим сибирско-белорусским писателем»; диссидент Ким Хадеев, как-то умудрившийся вместе с поэтом Григорием Трестманом издать в середине 70-х в Минске, когда Аннинского в Москве не печатали, его книгу о кино; Светлана Алексиевич, пяти книгам которой посвятил Аннинский блестящую, как ни у кого глубокую работу «Слепящая тьма Светланы Алексиевич», где как бы предвосхищал («она противостоит безумию») ее Нобелевскую премию…
Можно определенно сказать, что Лев Аннинский содействовал процессу продвижения белорусской литературы к русскому, «союзному», а затем и к европейскому, мировому читателю. Редкий случай прямой помощи белорусской, которую всё никак не хотят в России признать за самостоятельную, культуре. Но не это главное, пожалуй. Главное, что он содействовал (и содействует) редкому процессу мышления — причем не только (и не столько) писателей, но и читателей. Когда этот, как он сам о себе однажды сказал, «наивный антисталинист» пишет: «Жить стало лучше, но противнее», — ты не можешь не подумать, что почти все, что написано и российскими, и белорусскими интеллектуалами о постсоветском времени, сводится именно к этому. Это сжатая характеристика времени, нашего состояния в нем, в доказательство чему Аннинский говорит о прозе Сорокина, Ерофеева, Пелевина (выделяя последнего) как о результате этого состояния, в противовес которому (потому что в нем писателю можно писать, но читателю невозможно жить) возникла проза Марининой, заявляющей: «Я вам не Достоевский». А когда он пишет, что, как интеллигент, не выделяет себя из народа, дело которого — уничтожение интеллигенции, то есть, самого себя, ты не можешь не видеть, что именно это, самоуничтожение, и происходит сейчас с народом. Хоть с русским, хоть с белорусским…
Он не был ни за русских, ни за белорусов, ни за евреев, утверждая, что противоречия «красного века» не этнические, а этические, и называя себя пограничной собакой. И по нюху его не только на литературу, но и на жизнь — это действительно так. Только в отличие от пограничной собаки, которая ничего не боится, он боялся тьмы. Поэтому всегда носил в своем вечном рюкзачке, с которым прошел и через всю Беларусь, и через всю жизнь, фонарик.
«Тьма лукава…» — написал он в эссе о Светлане Алексиевич.
Минск
Азат Егиазарян
Выражаю мои искренные соболезнования по поводу смерти Льва Аннинского. Я общался с ним весь период моего активного сотрудничества с ДН, в 70–80-е годы. Для меня он был не только одним из столпов журнала, но одним из ведущих советских критиков, литератором с тонким вкусом, честным и преданным литературе. Я его называю советским критиком (что отнюдь не отрицает того, что он был великим знатоком и ценителем современной и классической русской литературы), потому что он действительно интересовался всеми национальными литературами Советского Союза, писал о них. Его смерть — потеря для всех тех, кто знал его и читал его статьи, независимо от национальности.
Ереван
Юрий Кублановский
Нет больше Льва Аннинского, исследователя литературы, критика, публициста и культуролога. А значит, в культуре нашей образовалась лакуна, которую никто не заполнит. Слишком своеобычен, энергичен, принципиален и при всем том добр был Аннинский.
Еще в 90-е годы, когда непримиримой казалась идеологическая схватка либералов и патриотов, Аннинский удивительным образом совмещал в себе все здравомысленное, что было в оппонентах. Он был вездесущ и старую классическую литературу нашу, ее музыку, органично совмещал с лучшим, что есть у нас в современности.
Однажды мне посчастливилось путешествовать с ним по Сибири. Разные были в нашем «десанте» классики: Евтушенко и Александр Кушнер, к примеру. Казалось бы, ничего общего — ни в темпераментах, ни в судьбах. Но и тогда Аннинский был прочным мостиком, хорошим скрепляющим звеном — от него исходил культурный покой, к которому хотелось от души приобщиться. И невольно задумываешься: вот человек — писал при советской цензуре, и в криминальную революцию, и ныне — в годы поступательного, но непростого развития. И всегда оставался при этом самим собой, не юлил, не подлаживался к моменту…
Когда-то он брал у меня для журнала «Родина» обширное интервью. Помнится, наш разговор высоко оценил тогда Солженицын. Для «Родины» и был у нас разговор о родине — нашей общей, которую мы так жарко и одновременно тревожно любим.
Мир его праху! Лев Аннинский навсегда останется в синодике отечественной культуры.
Юло Туллик
Лев Аннинский — ученый и творческая личность, литературовед и эссеист, глубокий аналитик и яркий мыслитель, ему тесны были рамки насаждаемого в советской художественной литературе социалистического реализма, в чем он осмеливался открыто сомневаться. Мы прощаемся с коллегой, эрудиции и авторитету которого доверяли на протяжении долгих лет нашего творческого общения.
Таллинн
Олег Сидоров (Олег Амгин),
председатель ассоциации «Писатели Якутии»
Первое знакомство с произведениями Льва Аннинского для меня неразрывно связано с временем 1985—1990-х годов. «Литературная газета», толстые журналы были как новое свежее окно в другой мир, закрытый ранее для простого читателя, живущего в далекой провинции, какой была Якутия. Да, существовало единое культурное пространство, в котором ведущую роль играла русская классическая литература, и в какой-то мере как раз она и была объединяющим началом для всех национальных культур и литератур. Но не было в ней все-таки очень важнейших звеньев — литературы запрещенной, литературы русского зарубежья, самиздата.
В годы перестройки и гласности триумфальным было возвращение духа шестидесятников, и вся тогдашняя политика опиралась на них. Это было сродни взрыву мысли, новых образов и понятий. Живое слово литературы, казалось, переплеталось с жизнью, с политикой, демократическими изменениями. И это слово русских интеллектуалов оберегало нас, это слово давало надежду. В первых рядах был Лев Александрович Аннинский, во всяком случае, он воспринимался именно так. Он был из «шестидесятников» — самые яркие Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллина…
Евгения Александровича не стало в 2017 году. И теперь вот Лев Александрович. Ощущение, что та эпоха светлых надежд и такой безудержной романтики 1960-х, вдруг ожившая после 1985 года, сменилась другими годами — без светлой веры и романтического настроя…
У меня дома в Амге накопилась за те три года работы в 1985—1988 годы в районной газете большая коллекция толстых журналов. И вот, после переездов и других бытовых упорядочений, от остатков веет такой чистотой, не сыростью ожидаемо истлевающей бумаги, а вот именно какой-то необъяснимой чистотой…
Тексты Льва Аннинского обладают своей особой музыкальностью, и его интонации, порою, говорят о многом. Лев Александрович Аннинский относится к символам-личностям, несущим в себе Национальный образ российского интеллигента.
Чингиз Гусейнов
Умер в 85 лет Лев Александрович Аннинский — для меня всегда Лёва. Да, ушел истинный, большой литератор земли российской. Знакомы были… — такие долгие годы, шесть с лишним десятков лет!.. А одно время, с конца 50-х, даже входили в некое содружество близких тогда по духу ровесников (плюс-минус три-пять лет), часто встречались: это и Юрий Суровцев, неугомонный организатор посиделок, и Валя Оскоцкий, Стасик Лесневский, Виктор и Тамара Балашовы, муж и жена, Сева Ревич, два Льва — Антопольский и он, Аннинский, оттепельное поколение… Потом годы так называемого застоя, разбрелись кто куда — текучка, будни творчества…
Последние годы, опять-таки много лет, Лев Аннинский был бессменным и незаменимым Служителем Пера в журнале «Дружба народов», и для него, Льва Александровича, это словосочетание вмещало в себя и огромное литературное пространство под названием «литература народов СССР», включавшее, естественно, русскую литературу, и оно было чрезвычайно популярное в сфере практики и теории, изучалось, пропагандировалось, поощрялось (и неплохо, кстати, оплачивалось!) в годы реализации — формула тех лет — «ленинской национальной политики»… Когда советская власть сгинула (по моему глубокому убеждению — из-за непоправимых стратегических ошибок именно в этой политике!), то постепенно ушло, предалось забвению и это исследовательское поле, и одним из немногих, кто остался верен «дружбе народов — дружбе литератур», был Лев Аннинский, для кого площадкой реализации его идей оставался единственный в этом роде журнал «Дружба народов». Я знаю, с какой радостью он откликался своими статьями на талантливые русскоязычные и переводные книги так называемых «национальных» писателей, будь то российских или бывших советских, но ныне ставших в одночасье «иностранными».
Лев Аннинский понимал, точнее, различал в объемном слове «русский», что оно имеет — редкостное явление — как бы две грани: это и имя существительное «русский», но это в значительной степени и прилагательное, относящееся, кстати, к «нерусским русским», для которых родной язык творчества — русский, и они, творя на нем, ставшим на стыке XX и XXI веков мировым, созидали также и русскую литературу, которую нельзя себе представить, и это понимал Лев Аннинский, без творчества евреев Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Фридриха Горенштейна, белорусов Василя Быкова и Светланы Алексиевич, полугрузина-полуармянина Булата Окуджавы, абхаза Фазиля Искандера, полукиргиза-полутатарина Чингиза Айтматова, таджика Тимура Зульфикарова, братьев-азербайджанцев Максуда и Рустама Ибрагимбеков и многих-многих других, список тут внушительный. Впрочем, это редкостное своеобразие русской литературы, мало или вовсе не замечаемое широкой аудиторией, восходит к XIX веку, если вспомнить хотя бы троих: предков арапа-эфиопа Пушкина, татарского Кара-Мурзы Карамзина и чистокровного украинца-малоросса Гоголя.
…Это — тонюсенький штрих к многомерному образу Льва Аннинского, и он, как со времени нашего знакомства и дружбы осталось в моей памяти, всю жизнь он пытался разобраться в органичном русском своем естестве, в которое примешалось материнское еврейство, украсив и обогатив его внутренний мир, придав его мышлению историческую объемность. Тогда же, в оттепельные годы, он как-то признался мне, что пишет о своей родне, русско-еврейских предках, нечто вроде воспоминаний, чтобы понять через них себя, что уже написаны две тысячи страниц. Иногда спрашивал его: «Как с воспоминаниями?» «Пишу-пишу», — отвечал он поспешно и переключался на другую тему… Где она, эта рукопись, сохранилась ли?
…Да будет тебе, Лёва, пухом наша планета Земля.
Инна Кабыш
Очарованный странник
Мне повезло.
Повезло со страной, веком, учителями, издателями. Авторами предисловий.
Одним из них — главным! — был Лев Аннинский. Он написал предисловие к моей книге «Невеста без места» в 2008 году.
Уверена: хорошо не то предисловие, где тебя хвалят, а то, из которого узнаешь в себе что-то новое.
Именно таким был текст Аннинского.
«Очарованный странник», он всю жизнь исследовал страну под названием «Русская литература», делая открытия как для читателей, так и для писателей.
Его Лесков стал сенсацией.
Помню, я купила черный семитомник не столько из-за Лескова, сколько из-за Аннинского, написавшего предисловие к каждому тому и, по сути, открывшего нам нашего «прозеванного гения».
Тогда, встретившись с Львом Александровичем, я сказала ему, что его «литературоведение» — само литература и что второй такой только Игорь Волгин.
«Да, нас двое…» — довольно кивнул Аннинский.
Авторские передачи по «Культуре» о поэтах Серебряного века стали еще одним стиранием белых пятен с литературной карты России.
Я тогда усадила перед телевизором своего пятилетнего сына и сказала: «Слушай не о чем говорят, а как».
Лев Аннинский поражал тем, КАК он говорил по-русски. Не с точки зрения интеллектуальной (это само собой), а с точки зрения фонетической, что ли. Секрет так «вкусно» говорить по-русски утрачен.
Но Аннинский умел не только говорить, но и слушать. Он был, как сказали бы сегодня, в высшей степени толерантен.
«Ты прав, потому что я — Лев!» — было любимой присказкой Льва Александровича.
Люди его типа, сколько бы они ни прожили, оставляют ощущение проживших недостаточно.
У меня есть стихотворение, оканчивающееся словами:
…и с каждым годом светлее моя печаль,
и смысла теперь умирать никакого нет,
поскольку старых, их никому не жаль.
Я вспомнила эти строчки и подумала: как чудовищно я не права. Ведь вот умер старый человек, а его не просто жаль — ощущается дырка, образовавшаяся в ноосфере, и на память приходят совсем другие строки:
Какой светильник разума угас,
Какое сердце биться перестало!
Евгений Абдуллаев
«Жизнь прошла — как не было. Не поговорили».
Почти по Левитанскому: не поговорили. Здоровались; я пару раз задавал какие-то общие вопросы — «над-чем-работаете?»… Он немногословно отвечал. Возможно, ждал какого-то большего — более искреннего — интереса, менее общих фраз. Я же ждал — так, увы, устроены литераторы, — большего интереса к себе. Мне казалось, ему не совсем нравилось то, что я пишу. Просто — казалось. В свою очередь, я редко заглядывал в его «Эхо», которое он старательно, из номера в номер, вел. А заглянув, я еще реже дочитывал. Казалось (опять казалось) — это «эхо» прежнего Аннинского. Поклонником которого я не был, но что-то с удовольствием читал: замечательную его статью о Сухово-Кабылине, например.
«Здравствуйте, Лев Александрович. — Здравствуйте.»
Не поговорили.
О чем? Не думаю, что о современной литературе, в которую он пристально вглядывался (если судить по его «эхам») и в которой с трудом ориентировался (судя по ним же). Как и многие его литературные сверстники, он замер где-то на литературе шестидесятых-восьмидесятых. Поговорить о той литературе? Вряд ли бы мне удалось удержать «маску внимания», слушая хвалы Евтушенке или позднему Мартынову, которых он так любил.
Тогда о чем?
Просто поговорить, неторопливо попивая чай или прогуливаясь по палым листьям. «Племён минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их суду». Увы, такого разговора не произошло — мы слишком небережливы к живущим. И эти сбивчивые строки — лишь слабая замена этого разговора, когда второй собеседник уже обречен на высокое молчание.
Вечная память.
Ташкент
Дмитрий Быков
Серебряный век русской истории повторился в семидесятые — тот же глубокий, почти маразматический застой при таком же безудержном, тепличном расцвете культуры, тот же базис, уничтоженный непомерно разросшейся надстройкой. В этой бледной, довольно медной копии серебряного века почти у всех были типологические двойники: Окуджава во многом совпадал с Блоком, Петрушевская — с Леонидом Андреевым, Владимир Максимов — с Максимом Горьким, Савенко (Ропшин) — с Савинковым (Лимоновым), и мне казалось иногда, что Синявский и Розанова были отражением Мережковского и Гиппиус, на что Марья Васильевна даже обиделась: «Я нисколько не гермафродит! И проза Синявского гораздо интересней!». Интересно, что Белым семидесятых годов был, по-моему, Саша Соколов, хотя и сильно уступает ему в таланте, а Чеховым — Трифонов; линии Есенина и Маяковского продолжали Высоцкий и Бродский, что прозорливо обнаружил еще Карабчиевский. В этой теории двойников и реинкарнаций нет ничего мистического — просто в сходных обстоятельствах, которые в России циклически воспроизводятся, появляются сходные люди, с поправками, разумеется, на контекст. Лев Аннинский в семидесятые был довольно точным подобием Василия Розанова. Насколько я не люблю Розанова, настолько же люблю Аннинского, — в скитаниях между воплощениями душа успевает кое-чему научиться и от некоторых неприятных качеств избавиться. Есть некоторая ирония судьбы в том, чтобы юдофоб (и юдофил) Розанов в следующем воплощении побыл полуевреем, чтобы церковная проблематика вовсе перестала его волновать, а семейная — продолжала, чтобы литературно он был так же одинок, но читателем так же любим, и чтобы при всем этом литературном одиночестве он продолжал пользоваться любовью коллег. Его могли клеймить, исключать из Вольфилы, упрекать в эклектизме, национализме и порнографии — но с ним было жутко интересно; и даже те, кто клеймили, — его любили, хоть и не всегда признавались. Главное же — его нельзя было не читать.
Аннинский близок Розанову прежде всего тем, что он не филолог в строгом, научном и несколько талмудическом смысле, не защитил диссертации, хотя открытий его хватило бы на десяток (и это роднит его с Шкловским, который у Розанова взял свой знаменитый строфический стиль: Шкловский не был даже кандидатом наук!). Розанов написал единственную строго-философскую работу — «О понимании», — после чего перешел на любимую свою эссеистику, в которой достиг вершин стилистической свободы и афористичности, тогда как «О понимании» — вещь совершенно нечитабельная. Аннинский — этот идеал русского критика, чистейший образец, — совершенно не критик в строгом смысле слова. По собственному его признанию: «Я люблю сам процесс мысли, люблю мысли, которые вызывает у меня чужой текст, и рефлексию по его поводу» — это он мне говорил в первом интервью. Рефлексия по поводу текста — это не критика, это то, что писал Розанов о Гоголе или Достоевском. Аннинский менее всего эксперт, и я хорошо помню, как он сказал, выступая на студии Волгина году в 1984: критика ради критики — занятие онаническое. Ему ничего не стоило бы написать разносную рецензию с позиций «эстетической критики», продемонстрировать чью угодно художественную беспомощность — потому что с беспомощностью проблем как раз не было, мало кто в семидесятые демонстрировал безупречный вкус. Расхожей стала его фраза: «Мне интересно не качество текста, а состояние художника». Поэтому он считал этапными текстами не только повести Маканина, допустим, а и роман Киреева «Победитель», ныне совершенно забытый. Кажется, несовершенный текст ему был интересней — он откровеннее проговаривается. Он любил авторов, которые мучительно себя ломали и над собой росли: Владимова, например. Его интересовал (и бесил) Евтушенко — но интересовал и бесил одним и тем же: наглядностью. На нем можно было показать тенденции, то есть, по-кушнеровски говоря о времени, «с нас его черты и складки, приглядевшись, можно снять». Аннинский писал историю русской общественной мысли, русской интеллигенции, и литература его интересовала как зеркало процесса, как индикатор самосознания. И сам он был частью этого процесса, а потому позволял себе и пристрастность, и обширные авторские отступления, и автобиографизм (не зря главной его книгой оказался документальный роман об отце «Жизнь Иванова» — тоже попытка понять себя, но через отца).
Как Розанов, он писал много; как Розанов, он писал везде. Он был предельно субъективен и всем нам разрешил эту субъективность: считалось же, что советский критик и публицист не должен выпячивать свое я, обязан растворять его в коллективном мы. Ячество было грехом, за это особенно яростно колошматили Евтушенко. Аннинский, напротив, демонстративно говорил о себе, выпячивал обстоятельства своего знакомства с текстом или фильмом, погружал искусство в личный контекст, и этим создавалась присущая только ему интонация абсолютного взаимного доверия. Потому что в семидесятые годы было чувство, что все мы делаем одно дело и разделения наши условны. В этом же, кстати, была оборотная сторона розановского довольно неприятного интимничанья: все свои. Даже и с евреями мы все свои, и ненавидим их как-то по-свойски, даже непонятно, с чего они так обижаются. Аннинский из последних сил удерживал эту общность, в рамках которой он только и представим, — вне ее он никому, и самому себе, не нужен. Аннинский был главным критиком позднесоветской эпохи и после ее окончания не находил себе места, хотя продолжал сплачивать стремительно распадающееся писательское сообщество. Главным содержанием советской эпохи был поиск общностей и родства — общих корней, общего прошлого, а стало быть, и будущего. Главное содержание постсоветских времен — стремительное разделение, трещина, идущая по всем монолитам: расколы театров, творческих союзов, условное разделение всех сообществ на Украину и Новороссию, на агрессивных консерваторов и бессильных новаторов, и попытки Аннинского с одними и теми же критериями подходить к этому распадающемуся миру — смешны и трогательны: он рецензировал микроскопических авторов, — Чуковский не понимал, как Блок может это делать, но вот он зачем-то мог. Он печатался даже в «Литературной газете», даже в «Дне литературы» — и повторял: я буду разговаривать со всеми, кто будет меня слушать. И это тоже было обаятельно, ибо диктовалось высокой целью. Главное же — это ничего не могло остановить, и потому это было бессмысленно, как всякий подвиг. Прислушиваться к нему продолжали только те, кто на нем вырос.
Здесь следовало бы перечислить главные его книги — «Ядро ореха» о современном литературном процессе, «Охота на Льва» — об экранизациях Льва Толстого, «Лесковское ожерелье», «Серебро и чернь» (гениальное название для книги о поэтах десятых и двадцатых годов), книгу о Николае Островском, в которой он пытался проанализировать роман, как если бы оказался первым его читателем, непредубежденным и неангажированным, — но важней этих книг интонация. Аннинский был, по собственному выражению, сыном двух бродячих народов — еврейства и казачества; он не был ни монархистом, ни либералом, ни славянофилом, ни западником, ни архаистом, ни новатором, — он был человеком литературы, который этой литературой живет и через нее все понимает. Он продолжил и усовершенствовал метод, создал интонацию, и пока он был в литературе, — казалось, что есть у нее и смысл, и цель, и оправдание.
Но поскольку он, как и Розанов, себя в ней растворил, — он теперь в ней есть и будет; вот почему к чувству утраты примешивается чувство победы, даже триумфа.
Его забавляло и, кажется, радовало, что я — Львович и всегда это подчеркиваю. И уж как-нибудь он сделал для меня больше родного отца, которого я не знал. Аннинского я знал хорошо, близко — и советовался с ним по массе вопросов, литературы совершенно не касавшихся; его советы и предсказания всегда диктовались любовью и были поэтому точны. В некоторых инскриптах он называл меня духовным сыном. В нем я нашел такого отца, которым можно гордиться и которого невозможно потерять.
Валентин Курбатов
Оказывается, он в паспорте был Иванов-Аннинский. И всегда много говорил и думал об отце, словно оставался осиротевшим мальчиком. Это отец, уходя из станицы в Москву, назвался из просто Иванова еще и Аннинским, чтобы дорога была просторнее. И меня особенно тронуло, что в последний год жизни Лев Александрович крестился и ушел, причастившись Святых Тайн. Вернулся домой — в Ивановы.
И сами его книги и статьи вели читателя именно его сразу узнаваемой дорогой от правды к Истине, на которой он не знал остановки. И оттого были так живы и искренни, так личны и свободны.
Отчего он не числился ни в каких определенных литературных лагерях и партиях, как бы его туда ни манили. Он не помещался в них, как не помещается жизнь. И сам был жизнью и естественной частью вечного русского пути, которым была жива и Бог даст еще поживет и подержит человека наша великая литература — от правды к Истине.