Опубликовано в журнале Континент, номер 146, 2010
Свящ. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
— родился в 1942 году. Окончил Филологический факультет МГУ. Автор книг “Приходящие в церковь”, “Дабы уверовать в мир”, “История Почаевской Лавры”, “Открытие Слова”, “Взыскуя лица Твоего” и др., целого ряда богословских переводов и религиозно-философских статей на разных языках. В 1991 году был приглашен католическим Университетом г. Брешия (Италия) преподавать русский язык и литературу. В Италии постоянно выступает с лекциями о православном богословии. Священник. Служит в православном приходе Всех скорбящих Радости. Живет в Брешии.
Свящ. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ
Смерть Толстого в русской памяти
Правило жизни
“Правило. Называть вещи по имени”, — записывает 22-летний Толстой в своем Дневнике, который будет вести до конца дней.
“Правилу” он будет следовать всю жизнь. Не только в привычном, нравственном смысле: я должен говорить правду себе и другим, чего бы мне это ни стоило, но — творчески, религиозно: “правду вещей” я призван выявить, выразить, вылепить сам. Созидание “вещной” правды — исток и тайна искусства. Вещи, в самом широком понимании слова, вовне и внутри нас искусство наделяет теми именами, в свободном их толковании, которые человек выносит на свет из опыта своей жизни. Имена или смыслы, формы, образы вещей, видимых и невидимых, зачинаются и вынашиваются во всяком человеке, художнику лишь дается способность родить их, ввести в мир, им созданный и доступный другим. Толстому она была дана в такой степени, что сделала его автором прозы, равную которой трудно найти во всей истории литературы. Он жил в век великих писателей: Диккенса, Бальзака, Стендаля, Флобера, Гоголя, Гончарова, Тургенева. Но Достоевский и он — вне этого ряда. Это иное измерение искусства, которое уже как бы и не укладывается в обычные его рамки.
Юношеская запись в “Дневнике” сделана по вполне житейскому поводу, но, если задуматься над ней, мы неожиданно сможем услышать в толстовском правиле какое-то эхо того “определения творчества”, которое встречаем в первых строках Библии. Каждая из вещей наделяется подобающим ей именем, которое ей дает человек, говорит Книга Бытия: “Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел (их) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей” (Быт 2:19). Спору нет, дистанция между Словом Божиим и случайной дневниковой записью неизмерима. Сопоставлять их не имеет смысла. Но вне всяких сопоставлений спросим: разве призвание искусства не состоит в этом выявлении обозначаемой человеком истины вещей, в наречении настоящих, человеческих их имен, которые принимает Творец? “Как в первый день созданья” Он творит все новое и приводит к человеку образованные Им частицы бытия, чтобы мы очеловечили и назвали их, приобщившись к Его творению. Откликаясь, мы даем им имена, вводим их в словарь, память, обиход, делаем нашей реальностью, общей с Богом и людьми. Имя — это и слово, и средство, прикосновение, рисунок, и мысль, и оттиск того, что запечатлевается человеком. И вот что важно: дар наречения имен дается человеку-Адаму еще до его падения ради его устроения в мире, в перспективе его соработничества с Богом, дабы в каждой из вещей человек мог узнать ее Творца, чтобы каждое из имен вело к диалогу с Ним. Поздний Толстой, как мы знаем, не хотел слышать ни о каком Адаме (ни “историческом”, ни аллегорическом), но прав был св. Григорий Богослов, сказавший, что Адам живет во всех нас. И адамов дар, призвание к именованию вещей, присущ каждому, хотя и в очень разной степени.
Называть вещи по именам — дело художника. Но оно может быть и приношением “своих” вещей Богу, служением религиозным. Иногда художник, тем более такого масштаба, как Толстой, ищет соединить в себе оба эти призвания. Однако после грехопадения, о котором писатель не желал и слышать, все человеческие дары стали существенно иными. “Наречение имен” вылилось в индивидуальное творчество — художественное, философское, научное, т. е. в устроение своего, а не Божьего мира, изведение его из себя, из своего “я”, своего видения или мышления. Наделяя именем какую-то реальность, человек уже делает ее своей. Замыкает ее в себе, овладевает ею, пересоздает на свой лад. “Имена”, слова, понятия, формулы, из которых строится его мир, художественный или научный, даже откликаясь Слову Творца, становятся его человеческим, только человеческим, достоянием. Чем одаренней художник, чем сильнее мыслитель, тем острее, глубже ощущается в нем эта изначальная двойственность: открытие мира, сотворенного Богом, и противопоставление ему мира, созданного человеком. Творческая мощь Толстого, т. е. небывалая его способность наделять именами-образами выявляемые им “вещи”, создала его собственный “фрагмент мира”, населенный действующими лицами, картинами, событиями, идеями, переживаниями, словом, целый универсум его “имен”. Среди них не могло не найтись особого имени и для исповедания веры его.
Вера как суд
Главенствующее место, особенно во второй половине жизни Толстого, в его универсуме занимает религия, созданная им на основе собственной “правды вещей”, того, что утверждалось им как доброе, ясное и понятное. Нравственность и разумность — это первые имена, которые он дает творимой им реальности, неотъемлемой частью которой становится его толстовская вера. Толстой находит свою веру, исходя не столько из открытия им Бога, встречи с Ним, сколько на основе суда над верами других. Вера начинается у него с осуждения, она выносит свой приговор тому, что не вмещается в реальность, построенную разумом. Когда мы переходим от художественных произведений Толстого к публицистическим и философским, мы словно оказываемся в атмосфере судебного процесса. Но этот процесс обращен прежде всего на самого писателя. Если взять его многотомный Дневник, мы увидим, что основной мотив в нем — не столько даже описание своей жизни, сколько самовоспитание и самоанализ, скрытое или явное, но неизменно настойчивое вопрошание и испытание совести. Однако и в совести он остается один на один не с Богом, но с собой. В течение всей жизни Толстой — кающийся судья (как называет себя один из героев Камю), в этом источник его необыкновенной силы, но также и какого-то религиозного бессилия. Он вызывает на суд историю (последняя часть “Войны и мира”), искусство (Шекспира в особенности), но главный его суд — над Церковью и ее исповеданием. Потому что вера в сверхразумного, непостижимого Бога не вмещается в мир правды его “имен” — мыслей, идей, образов.
“Вера не может быть осуществлением ожидаемого, — спорит Толстой с ап. Павлом — так как вера есть душевное состояние, а осуществление ожидаемого есть внешнее событие, вера не есть также уверенность в невидимом, так как уверенность эта… основывается на доверии к свидетельству истины, доверие же и вера суть понятия различные… Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам” (“В чем моя вера?”).
Апостольское определение веры в 11-й главе Послания к Евреям — одно из самых важных свидетельств Писания. Полнее и глубже оно передается поразительной славянской формулой: “Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых”. В этой словесной иконе, если мы позволим предложить свое толкование, ответ Божий скрыт в уповании человека, в поиске или ожидании Бога таится “вещность”, правда или имя ответа. Его имя — это Он сам, “Сущий”, Тот, Кто есть, и Его бытие посылается нам как Слово или присутствие Божие. Слово или присутствие открывается в самом обращении человека к Богу, в доверии к Нему, в уверенности в Нем, ибо человек сотворен этим Словом и носит Его в себе. “Ты вложил в меня упование у грудей матери моей” (Пс 21:10), — говорит Псалом. И вместе с тем “вещи” нашего упования “обличаются”, в изначальном смысле — наделяются ликом, тем Лицом, перед которым, — когда мы узнаем его, — мы осознаем себя верующими. Вера рождается при узнавании этого Лица, она есть ответ вложенному в нас упованию. В уповании заключена не только эмоциональная, но и субстанциальная онтологическая основа веры: Бог отвечает человеку изнутри надежды.
Присутствие Бога в нас и укорененность в Нем христианской веры непосредственно связаны и с онтологичностью, бытийственной основой Церкви со всем догматическим и историческим ее телом, таинствами и преданиями. В системе Толстого все это подвергается беспощадному суду. Универсум его “вещей” плотно запечатан: ничто, превосходящее здравый смысл, не прорывается через его стены. Вера для него — не то, что изначально связывает нас с Богом, но основа нравственного поступка. Чтобы доказать это, он готов спорить с самим Евангелием. “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”, — сказано в Прологе у Иоанна, но Толстой, когда принимается переводить его с греческого, хочет уместить Логос в обыденное наше Разумение, понятие бесконечно менее объемное, чем “Слово” у евангелиста. Слово — и звучание, и смысл, и текст, и разум, и воля, образ, и лицо, и свет, и наконец тайна. Тайна Слова совершается в Церкви как таинство, и потому именно оно, как и все, что остается за пределами Разумения, оказывается одним из главных обвиняемых на толстовском процессе. Таинство для Толстого есть укрытие и прикрытие, куда бежит историческое христианство, скрываясь от понятного, ясного Бога, требующего только добрых видимых дел. Оттого он так хочет разрушить это укрытие, вывести его на чистую воду. Ни для каких тайн у него нет места, все проверяется нравственным поступком, а нравственность — Евангелием, очищенным от всяких напластований, Евангелие — очевидной для писателя простотой Нагорной проповеди, Нагорная проповедь — неким всеобщим, данным всем разумным законом жизни.
Бог Толстого
В разоблачительной его философии встречается множество привычных нам слов — жизнь, смерть, нравственность, разум, любовь, бог, но живут они как бы сами по себе, вне той глубинной основы, которая придает им смысл и наполняет светом. Отсеченные от своих корней, они увядают, ссыхаются в назидательную мораль, которой неизвестно почему мы должны повиноваться. Настоящая их глубина приоткрывается в Личности, которая приносит Себя как дар и становится ближе к нам, чем мы сами. Их корни — в Боге Живом, и вне Бога все значимые слова, определяющие человеческое бытие в мире, наши понятия о добре, рассуждения о долге, наше ощущение вины и наше раскаяние остаются неприкаянными сиротами. Это метафизическое сиротство ощущается и в религии Толстого. Его проповедь не подымается к небу, не выводит на берег Божьей реки, текущей из рая, его учительство предлагает нам только мятущегося человека, оказавшегося в лабиринте у самого себя.
Если сравнить “Исповедь” Льва Толстого и бл. Августина, то главным, хоть и сокровенным лицом августиновой “Исповеди” выступает тот невидимый Собеседник, к Которому он, “истаевая сердцем” (Иов 19: 27), постоянно обращается. “Славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе”. У Толстого нет этого невыразимого “Ты”, адресата молитв, признаний и славословий, сердце его не знает покоя. Его “ты”, по сути, он сам, мыслящий, судящий, мечущийся, пытающийся понять, утверждающий своего разумного бога как рачительного Хозяина Жизни. Толстой сам пробивает себе дорогу к вере и ведет по ней своего читателя, но всякий раз словно наталкивается на препятствие, останавливаясь там, где рациональное упирается в непостижимое, где слову хочется умолкнуть и стать на колени, чтобы повторить вслед за Иоанном Крестителем: “Тебе расти, а мне умаляться”.
Что же это за препятствие, которое стоит между ним, Толстым, и Богом, в Которого он некогда верил, а потом потерял и хочет найти вновь? Живого Бога заслоняло для него то мертвое для веры христианское общество, в котором он жил. Не мог он, — да и не только он, но и миллионы людей “вплоть до сего дня” не могут, — принять, что люди “пользуются” Богом для своих религиозных потребностей, но отнюдь не живут в согласии с Его законом милосердия и любви. Наш религиозный опыт, оставаясь интимным и внутренним, в значительной мере обусловлен историей и средой, частью которой мы являемся. Толстой утверждает: вера в том кругу, к которому он принадлежал, была на 90% лицемерием, лишь в простом народе, в мужицкой среде, она была искренней, хотя и переполненной суевериями. К суевериям же он относил практически все, что не оправдывалось судом Разумения: таинства, обряды, посты, почитания икон, жития святых. Однако именно таинства, обряды, молитвы раскрывают тот глубочайший опыт Откровения, доступный как немногим избранникам, встречавшим Бога лицом к лицу, так и неисчислимым массам людей, приобщаемых через эти таинства и молитвы к опыту веры, который соединяет их с Богом и между собой.
Однако никакого соединения людей между собой Толстой не видел и потому не мог принять свидетельства Церкви. “То учение, — говорит он, — которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истиной… И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести” (“Исповедь”).
Если все, что Бог хотел сказать людям, если вся любовь, которой Он возлюбил мир, уместились в словах и делах православной Церкви, не оставив за ее порогом ни крупицы божественного, то совершенно правильным, нравственным и спасительным был обычай сжигать еретика на костре, как при Алексее Михайловиче, а во времена, когда писалась толстовская “Исповедь”, отсылать его в одиночное заключение. Сегодня в России заключение ему, как правило, не грозит. Но проблема, мучившая Толстого, остается и сегодня не менее болезненной: отвержение личности другого, отсечение ее от неба, добра и хранилища истины. Та истина, которая церковными устами провозглашает себя посольством милосердия Божия, становится бессердечной и беспощадной ко всем, кто находится за ее пределами. Толстой не мог принять того, что правоверие и послушание Церкви было для нее гораздо важнее живого, экзистенциального опыта христианства, понимаемого им как “любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло”.
Вопрос: “Кто ты?”
Конечно же, не он один проделал этот путь: от реальной исторической Церкви с ее видимыми всем пороками, невидимой святостью и духовным богатством — к ясности и якобы простоте Писания, как бы “очищенного” от исторических наростов, народных суеверий и “преданий старцев”. Но Толстой с очень русской и жесткой решительностью пошел по этому проторенному пути, может быть, дальше всех. Чтобы удержать Христа-Проповедника, он отрекся (порой кажется, что чуть ли не насильно заставил себя отречься) от Христа Воскресшего; чтобы сохранить Евангелие как учительную Книгу жизни, он выбросил из него весть о спасении. В здании своего учения он заделал и залатал все “мистические” двери и окна, через которые в его веру могло бы проникнуть нечто, не подвластное его разумению. “Вещи” веры он назвал своими, переиначенными, “толстовскими” именами, потому что старые священные имена — имена церковного Предания — стали для него именами ложными.
Ложными потому, что в глазах Толстого они приносили отравленные плоды. Самым ядовитым и нестерпимым из них было насилие, и Церковь, выступавшая от имени Христа, была косвенной или прямой соучастницей этого зла. Она освящала насилие государства или даже непосредственно прибегала к нему. Насилие, причем в любой его форме (войны, крепостничества, бесправия, нищеты), было для Толстого пределом лжи, которая ничем, — в том числе и будущим загробным блаженством, — не может быть оправдана. И потому его душа моралиста и художника постоянно затевает процесс над исторической жизнью Церкви, но не ради какого-то романтического богоборчества, но во имя некого “страдающего брата”, несчастье которого не давало ему покоя. Оно буквально хватает его за руки, приковывает взгляд, и под этим взглядом он судит общество и себя.
“Кто ты? — вопрошает он после посещения ночлежного дома в Москве, пытаясь взглянуть на самого себя глазами нищих. — Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучить нас, или ты то, что не бывает и не может быть, — человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос” (“Так что же нам делать?”). Задав этот вопрос себе, он в качестве ответа выстраивает новую религию. Задав его другим, “своим”, он и обнаруживает, что христиан его круга чужое страдание особенно не тревожит. В начале его “Исповеди” мы встречаем признание, от которого не можем просто отмахнуться:
“По жизни человека, по делам его теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не впользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание в исповедании православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими”.
“На весах Иова”
Ум, честность, нравственность оказались для Толстого по ту сторону православной веры. От них пошла та уязвленность страданиями человеческими, которую когда-то исповедал радищевский “взгляд окрест”. Уязвленность эта давно разоблачена и поставлена на место, ибо плодом ее стала в конце концов революция, многократно страдания человеческие умножившая. Это столь же верно, как и то, что Церковь, с которой боролся Толстой, особенно и не смотрела туда, куда смотрели его “честность и ум”. Она была занята тем, что было выше или… ближе: грехом, запустением монастырей, безверием, расколом или, как в наши дни, влиянием на общество, глобализацией, ювенальной юстицией, грядущим Антихристом, в плане же земном — реституцией церковного имущества. Можно ли было утверждать, что в его, как и в наше, время и она была уязвлена “страданьями человеческими” или соблазнялась мечтой о неком всечеловеческом братстве, где все наконец полюбят друг друга? Кто-то из великих писателей (не Лесков ли?) утверждал, что честного человека в России труднее встретить, чем святого. Еще труднее представить себе персонажей гоголевской, щедринской, достоевской, толстовской России “братьями и сестрами во Христе”, между тем, с точки зрения церковной, все или почти все они пребывали в евхаристическом общении. И покуда “братство во Христе” и жизнь на земле, пусть даже и в храме, будут разведены по совершенно разным, почти не соприкасающимся реальностям, кто-то (пусть и бесконечно ниже рангом Толстого) всегда шумно или тихо будет возвращать в такое братство пригласительный билет, аппелируя к своей христианской (или нехристианской) совести. Конечно, нам не составит труда сослаться на духовную нечистоту или даже слепоту толстовского “ока”. Но что если Бог, одаривший художника такой зоркостью и беспокойством взгляда, и нам что-то хотел поведать через эту зоркость?
Толстого в его время осудил не только Святейший Синод, о нем едко, умно, иногда жестко, хотя часто и сочувственно, высказались все корифеи русской религиозной мысли: Соловьев, Булгаков, Бердяев, Розанов, Мережковский, Флоренский, Шестов. Они высказали о нем множество точных, глубоких и безупречных вещей, ничуть не утративших своей силы. Но, разоблачив “религию в пределах только разума”, они не могли разоблачить толстовскую боль. Измерив неглубокость его религиозной мысли, они не могли притупить остроту его взгляда. Тысячу раз указав ему на гордыню, они все же не перечеркнули глубины его покаяния. Мы привыкли почти механически разделять проповедника и художника, гения и злодея, растоптавшего то, что для нас священно. Но и там и здесь Толстой хотел следовать принятому им правилу: давать вещам имена, которые считал честными, и эта ослепившая честность навсегда разделила его с Церковью. Синод лишь холодно и торжественно подтвердил его самоотлучение (то, что потом стало называться “анафемой”), но синодальный акт от 1901 года был только определением позиций, противостоящих другу другу. В том давнем споре, в котором религиозно, логически, мистически безусловно была права Церковь, что-то осталось от спора Иова с его друзьями, которые, с общепринятой религиозной точки зрения, были, наверное, “лучшими богословами”. “На весах Иова” судьбы душ не всегда решаются исповеданиями и мировоззрениями, аргументами и словами. Иногда решающим аргументом становится молчание, последним словом — смерть.
Последнее обнищание
Смерть Льва Толстого 20 ноября 1910 года, как и его стремительное ночное бегство из Ясной Поляны непосредственно перед кончиной, была не только последней, но, может быть, и главной вестью его жизни. Он сказал ею больше, чем всеми религиозно-философскими своими сочинениями. И по сей день, столетие спустя, бегство и смерть остаются в нашей памяти одной из неразгаданных и трудных загадок. Этот, казалось, патетический жест, — вот так внезапно встать среди ночи, разбудив доктора, бежать, — был лишь последним всплеском глубочайшего духовного кризиса, который подтачивал Толстого десятилетиями. Так, как он жил раньше — писателем, проповедником, барином, — он больше не мог жить. Толстой постоянно оглядывался на себя и, оглядываясь, понимал, что достиг того, о чем другие не могли и мечтать, но при этом изнутри он был нередко терзаем какой-то духовной пыткой, в истоке которой не мог до конца разобраться. Он упорно, болезненно уличал себя в неправедном богатстве и накоплении — денег, славы, земли — и искал освобождения от всего этого, принесения Богу данных ему богатств. Он всю жизнь жил мечтой о том, чтобы все отдать, обнищать, опроститься не только внешне, но и внутренне. Он хотел называть вещи своими именами, не просто называть, а соразмерять их с собственным существованием, но оно никак не соответствовало тем обетам, которые он хотел дать самому себе. И потому это внезапное, хоть и долго созревавшее ночное его бегство было подобно уходу в монастырь и принесению обетов.
Эти обеты были в чем-то подобны монашеским, но главным из них был обет нестяжания. Публично, порой даже назойливо Толстой не раз каялся в похоти, у него было свое искушение властью, — хотел, “чтобы все думали так, как я”, — искал спасения от него в опрощении, в отказе от насилия. Но более всего, как ему казалось, он не исполнял обета бедности внутренней, евангельской нищеты. В своем “Дневнике”, особенно в последние годы жизни, он часто признается, что для него мучительна безумная роскошь среди невыносимой нищеты, “нищеты, среди которой я живу”. Это был его спор с самим с собой, постоянный суд над собой. Жил он далеко не бедно, хотя и скромно, нарочито скромно, — достаточно посмотреть на фотографию его спальни, которую он покинул в ночь бегства. Однако “апостол нестяжания” все же оставался обладателем слишком многих вещей, которые находились в вопиющем противоречии с его “опрощающей” верой: у него были владения, просторный дом, слуги, графский титул, деньги, но, главное, огромное литературное наследие. Внешне все это выливалось в конфликт с семьей, ибо ни Софья Андреевна, ни взрослые дети Толстого не имели никакого намерения все это достояние терять. Среди имущества, от которого он стремился освободиться, был и мощный, кряжистый его гений, далекий от всякой “нищеты духа”, вместе со всем, что он этим гением приобрел. К концу жизни он стал слишком обременителен для Толстого, хотя он и радовался своей мировой славе и одновременно стыдился ее. Его бегство к смерти, которой он не мог не предчувствовать, было последним, отчаянным прорывом к обретению евангельской нищеты сердца и духа. Таким, думаю, и останется эта смерть в русской памяти.
Драма, пережитая лично Толстым, вместила в себя конфликт, определивший всю русскую историю последних двух веков. Конфликт этот заключался в непреодолимом противостоянии совести и государства, гуманизма и Церкви, таких, какими они сложились в России. Сегодня это противостояние проходит через новый этап и, судя по всему, будет столь же безвыходным, ибо оно унаследовало все родовые черты: непримиримость, взаимную глухоту, склонность судить и отсекать другого прежде, чем выслушать. Как отметил Бердяев (“Духи русской революции”), абсолютное ненасилие Толстого и безмерное насилие, обращенное на всех и вся, русской революции суть лишь разные действия одной и той же драмы. Само толстовство давно принадлежит прошлому, но и сегодня отлучение Толстого имеет мало шансов быть отмененным или забытым. Гуманистическое сознание с его морализмом, бунтом и идеологиями и церковная вера, для которой все, что исходит от власти, освящается всеблагой волей Божией, еще не нашли в России общего языка. И едва ли намерены его искать. Есть что-то болезненно парадоксальное в этой ситуации: величайший писатель, один из тех, благодаря кому Россия есть то, что она есть, ее подлинный и одновременно ложный пророк, и Церковь, хранительница неисчерпаемого духовного богатства, противостоят друг другу в нескончаемой культурной и духовной войне. И когда-нибудь должен возникнуть вопрос: возможно ли здесь примирение и прощение? Должна ли Церковь более повиноваться заповеди, которая осуждает всякую хулу на Духа Святого, или заповеди, повелевающей прощать даже своих врагов и хулителей? Наконец российский гуманизм за своими хлопотами об обделенных страдальцах в этом мире узнает ли когда-нибудь Христа не в маске моралиста, но в лике Спасителя?
Вопросы, пока несвоевременные и потому риторические. Формальное примирение сейчас не нужно ни Церкви, ни Толстому, ни духовным его потомкам. Оно может произойти лишь тогда, когда мы сами, изнутри нашей веры, узнаем голос Христа, пробивающийся через обличения толстовской совести. Когда сама Церковь откроет боль и уязвленность Толстого как невостребованное, горькое, но целительное свое наследство. И тогда она сможет не только помириться с Толстым, но и станет называть вещи мира сего сострадательными, жесткими и правдивыми именами. Тогда она сможет и помолиться о нем, “презирая его прегрешения” и заблуждения, те заблуждения, которые ни тогда, ни теперь не могут поколебать камня, на котором она стоит.
Постскриптум. Свидетельство автора
Закончить мне хотелось бы хоть и малым, но личным свидетельством об одном эпизоде из последних дней жизни Толстого. Эпизод этот до самого недавнего времени оставался семейным преданием, никому, кроме автора сих строк, неведомым.
В своей книге “Лев Толстой” Виктор Шкловский пишет о его уходе, описывая момент, когда, добравшись до станции, он сел в поезд:
“Вероятно, Толстой попал в вагон, которые тогда назывались “4-й класс”. В них скамейки были только с одной стороны. Внутри вагон окрашивали в мутно-серую краску. Когда верхние полки приподнимались, то они смыкались.
Маковицкий хотел постлать Льву Николаевичу плед. Тот отказался.
В вагоне было душно. Толстой разделся. Он был в длинной черной рубашке до колен, высоких сапогах. Потом надел меховое пальто, зимнюю шапку и пошел на заднюю площадку: там стояли пять курильщиков. Пришлось идти на переднюю площадку. Там дуло, но было только трое — женщина с ребенком и мужик. Лев Николаевич приподнял воротник, сел на свою палку с раскладным сиденьем…
Поезд остановился, — говорится через несколько строк, — нахлынула толпа новых пассажиров. Как раз напротив Льва Николаевича остановилась женщина с детьми. Лев Николаевич дал им место и больше не ложился…”
Так оказалось, что той женщиной с ребенком, о которых упоминает Шкловский, следуя воспоминаниям лечащего врача Толстого Д. П. Маковицкого, была моя бабушка с матерью. В течение двух часов, когда они были вместе, Толстой охотно играл и разговаривал с девочкой. Он спрашивал, умеет ли она читать, давал ей решать какие-то простейшие задачки. По рассказам бабушки, он был целиком поглощен этим общением. На дворе была середина ноября, из окна дул резкий ветер со снегом, причем доктор Душан Маковицкий, сопровождавший Толстого, заботясь о свежем воздухе, старался держать окно открытым, а молодая женщина, беспокоясь о ребенке, постоянно его закрывала. Ветер, по ее словам, шел прямо на Толстого, который не обращал на него внимания. Через несколько дней он умер от воспаления легких на станции Астапово.
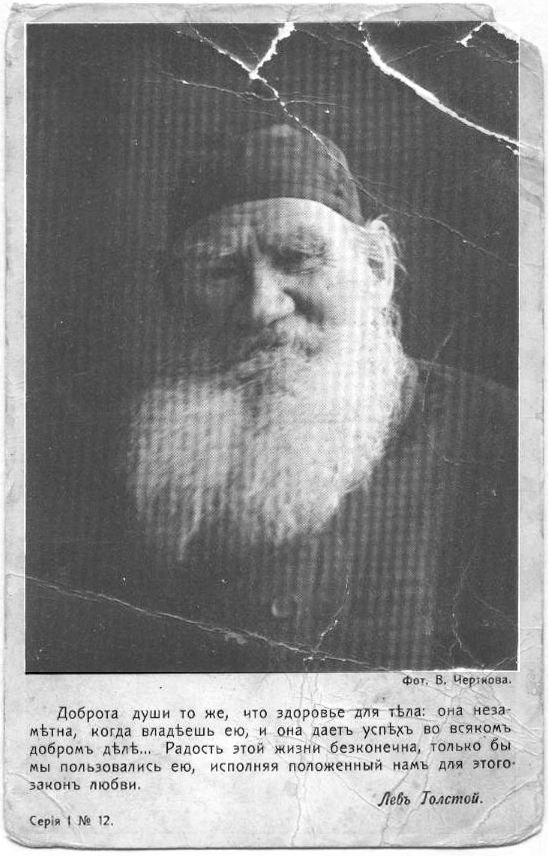 | 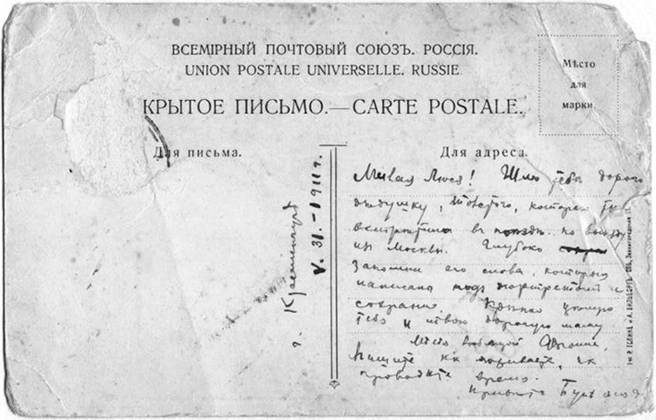 |
Бабушка и мать (Любовь Владимировна [1881 – 1969] и Елена Михайловна Вольфельд [1903 – 1983]) не раз рассказывали мне об этом. Единственное подтверждение, которое у меня осталось, ибо все действующие лица давно в могиле, — открытка с запиской, полученная мамой, с фотографией 80-летнего Льва Толстого от 31 мая 1911 года, посланная из Кременчуга: “Милая Люся! Шлю теб° дорогого д°душку, Толстого, которого, ты встр°тила въ по°зд° по выезду из Москвы. Глубоко запомни его слова, которые написаны подъ портретомъ и сохрани. Кр°пко целую тебя и твою дорогую маму...” (Писал кто-то из близких, кто именно, не удалось разобрать).
Под портретом написано:
Доброта души то же, что здоровье для т°ла; она незам°тна, когда влад°еешь ею, и она даетъ успехъ во всякомъ добромъ д°ле… Радость этой жизни безконечна, только бы мы пользовались ею, исполняя положенный намъ для этого законъ любви.
Левъ Толстой