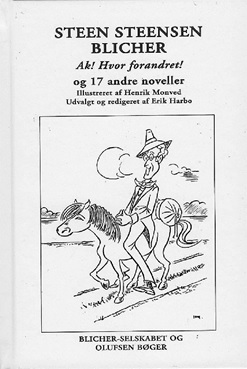Продолжение (начало в № 82). Перевод Егора Фетисова. Консультант Санна Семёнова Хедегор.
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 83, 2023
Перевод Егор Фетисов
ДАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
CD с записью новеллы
Утиная охота
Потребовалось немало времени, прежде чем я пришел в согласие с самим собой относительно стиля, каковым следовало написать эту важную и содержательную главу. Героика произошедших событий была бы достойна пера, но — сказать по правде — героическое дается мне с некоторым трудом; просто же рассказать историю казалось мне суховатым. К тому же сколько бы я ни озирался в поисках предшественников, уже ступавших на сию болотистую почву, — все безрезультатно. Один из наших пиитов, впрочем, было дело, как-то скушал жаркое из утки — так и осталось невыясненным, из домашней или дикой, склоняюсь к последнему — на обед, к тому же хаживал в охотничьих сапогах, но даже если сложить упомянутое воедино, это еще не утиная охота. Говоря коротко: я мог опереться только на устную традицию и на свой небогатый личный опыт; ими и воспользуюсь, насколько смогу.
Полуденное солнце уже освещало своими лучами Свирумгорское озеро, когда мы, охотники, обутые в отличные сапоги и прекрасно вооруженные, собрались вместе и, устроив поздний плотный завтрак (déjeuner dinatoire), старались набраться побольше сил и решимости для противоборства с водной стихией. Трапезу оживлял шнапс домашнего изготовления, а пикантности добавляли истории о былых подвигах, рассказывая которые, один охотник силился перещеголять другого в изощренности своей фантазии. Тут я, будучи неопытным новичком, чувствовал себя совершенно лишним. Да, к сожалению, мне не удалось в полной мере пожать плоды такой поучительной беседы, поскольку многие словечки и выражения были для меня непрозрачными и загадочными, и их значение я позднее и совершенно конфиденциально — чтобы не кричать на весь свет о своем неведении — выяснил у своего друга, юного Руриколуса.
И вот охота началась. Предводительствовал камер-советник Свирум, расставлявший остальных по местам (это все равно как назначать на должность, выражаясь неохотничьим языком). В озере, через тростник и камыш, от берега до открытой воды были прорублены проходы или прогалины, в которых было видно уток, и можно было по ним стрелять, пока их преследовали собаки. В конце одного из таких проходов, как раз самого последнего из всех, мне и отвели место. Прежде чем оставить меня одного, предводитель дал мне множество разных мягких, отеческих наставлений. «Как я понял из ваших слов, мой юный друг, — прошептал он, — вы умеете обращаться с ружьем, но привычки охотиться у вас пока еще нет. Утиная охота, мой дорогой, опасная штука — осторожнее, смотрите, куда стреляете! Не вздумайте лупить по камышам. И не пальните случайно в нас, когда наша лодка будет проплывать напротив вас, и Бога ради — не застрелите какую-нибудь из собак!» Я громогласно заверил его, что все будет замечательно. «Тсс, тсс! — немного сердито прошептал он и раздраженно махнул рукой. — Здесь можно говорить только шепотом!» После чего он тихонько удалился, чтобы взойти на борт маленькой плоскодонной лодки, ждавшей у другого берега озера. На битую четверть часа наступила тишина.
День выдался отличный: солнце пригревало, было безветренно и ясно, гладь озера напоминала зеркало. Лишь время от времени из воды выпрыгивала рыбина, ненадолго нарушая неподвижность блестящей глади, в результате чего очертания домов в усадьбе Свирумгорд и деревьев в ее саду, коими я только что любовался, теряли свою четкость, и я пробуждался от приятных фантазий. «Вот так же, — думал я тогда, — разбиваются и прекраснейшие из наших надежд, так исчезают дивные воздушные замки, которые мы строим; так на смену первой, тихой и чистой любви приходит волнение страсти». Но на охоте нельзя позволять себе сантименты: я гнал от себя эти столь неуместные здесь мысли, стараясь сосредоточить все внимание на деле, которому был посвящен этот день, и на тех обязанностях, которые были ныне на меня возложены — не потому что я считал их столь уж трудными, — просто до сих пор я еще не видел и не слышал ни одной утки и был близок к тому, чтобы счесть всю нашу охоту лишь набором ритуальных действий, эдакой имитацией. И я сильно ошибся.
Так я стоял, в чрезвычайно неприятном обществе комаров и мошек, почти не осмеливаясь отгонять этих навязчивых гостей рукой, отчасти памятуя о данных мне наставлениях, отчасти по той причине, что мой сосед, старик Рурикулос, стоило мне шевельнуть рукой, неодобрительно качал головой и шипел сквозь зубы долгое, но приглушенное «тсс» — так я стоял, повторюсь, практически отданный на откуп врагам, которым я не мог оказать почти никакого отпора, кроме как пытаться сдуть их или согнать, приведя в движение все мускулы своего лица. И тут — тут громкий всплеск и крик, ужаснее которого мне не приходилось слышать в моей жизни — донеслись с противоположного берега озера, отразившись эхом в холмах, меж усадебными постройками и в саду. Я решил, что произошло несчастье и в ужасе закричал: «Господин Руриколус! Камер-советник, наверное, упал в воду», на что Его Преподобие ответил смехом, который он долго — поскольку тот был преступлением против охотничьих законов — и удалось это далеко не сразу — пытался побороть, пока смех наконец не перешел в едва слышный сдавленный кашель. Тряхнув несколько раз головой и подав мне знак рукой, он призвал меня замолчать и избавил меня от несвоевременно овладевшего мной страха. Поскольку день был очень тихий, прочие охотники, должно быть, тоже слышали мой прозвучавший так по-детски возглас, но их насмешливое злорадство было более сдержанным. Это была первая совершенная мною оплошность, но ей не суждено было остаться последней.
В общем: крик или, скорее, истошный вопль, слышанный мною, и вправду вырвался из горла господина камер-советника, но это всего лишь был условный сигнал, подобие барабанной дроби, возвещавшей о начале охоты. Всплеск же, который я слышал, произвели собаки, кои, а их было восемь, хором бултыхнулись в озеро. Вскоре они принялись подавать голос (за ужином я один раз имел неосторожность сказать: залаяли; однако же господин Руриколус поправил меня серьезным и наставительным тоном: «Охотничьи собаки, мой дорогой друг, не лают, они подают голос»; я обещал впредь никогда более не допускать столь преступных ляпсусов). Итак, собаки подали голос, сначала одна, вскоре за ней остальные. Донеслось кряканье; несколько уток пролетели над тростниками и снова плюхнулись в воду, другие поднялись высоко в воздух, описывая широкие круги над озером. Охота набирала обороты: собаки приближались, сопровождаемые лодкой с их предводителем. Совсем скоро раздался первый выстрел. Звук выстрела эхом отразился от усадьбы и с грохотом прокатился над озером, замерев вдали в грудах водорослей. Это спустил курок мой сосед по позиции. Вскоре выстрелил следующий охотник, следом, один за одним, остальные, и больше часа по озеру велся непрерывный огонь. Тем временем лодка и собаки проплыли мимо меня, и я крайне был удивлен тем, что на мою долю не выпало ни одного выстрела, ведь большая часть уток непременно должна была пересечь мою прогалину — загадка сия однако позднее разрешилась.
Впрочем, будучи единственным зрителем, я развлекался этим новым и необычным для меня представлением: собаки и охотники, исполненные в равной степени страсти и рвения, ни на секунду не прерывали своего занятия; одни прыгали и плескались в воде, отфыркивались и подавали голос из тростников и камышей, другие стреляли и заряжали ружья, были и такие, что целились, а потом опускали ружье; но никто в этот день не сумел превзойти полного сил и бодрости хозяина, у которого мы гостили. Он не отдыхал ни минуты, переплывая с места на место — туда, где его присутствие особенно требовалось, стрелял, отдавал команды собакам — поскольку только ему позволено было говорить вслух — и из его часто раздававшихся оживленных выкриков: «Аппорт! Ха-ха, отлично, мой мальчик!» я сделал заключение — и заключение верное, — что добыча оказалась солидной.
Наконец предводитель решил, что территория прочесана довольно основательно, и дал отбой. Он вылез из лодки на берег, и все мы, отважные охотники, собрались вокруг своего адмирала, каждый со своей добычей — и только я стоял с пустыми руками. Произнеся в адрес каждого — в особенности Шпиона, увенчанного славой — заслуженную хвалу, он повернулся ко мне и сказал: «Но вы, однако, вовсе не стреляли из вашего ружья?» «Мне было не в кого, — ответил я. Он покачал головой. — Уверяю вас, — повторил я, — что я не заметил ничего, кроме рыбин, проплывавших мимо у самой поверхности воды, ни одной утки я не видел». Тут поднялся смех, подобный тому хохоту, что раздался на Олимпе, когда хромой Гефест принял облик слуги и принялся обслуживать сидевших за столами; насмеявшись вдосталь, все заверили меня, что по простоте душевной я принял за рыб селезней, которые во время линьки не могут летать. Мы выпили по порции виски, и на этом первый акт закончился, действие переместилось теперь в другую бухту озера.
Здесь прорубленные в тростнике и камыше чистины были такими длинными, что стрелять с берега было невозможно. Наш предводитель все предусмотрел и посему обустроил все умным — но несчастливым для меня — образом: посреди чистины, между берегом и открытым озером были вкопаны два столбика, на каждом сверху закреплена широкая доска; отсюда вся территория хорошо простреливалась. Камер-советник лично отвез нас по очереди на лодке и высадил на наши достойные всяческого уважения насесты. Когда я устроился на своем, предводитель, отплывая, сказал с озорной улыбкой: «Теперь будьте начеку, когда рыба примется плавать вокруг, и смотрите, не плюхнитесь в воду!» Первую фразу я пропустил мимо ушей, а на второе предостережение ответствовал с выражением лица, выражающим уверенность: «Не бойтесь, господин камер-советник, голова у меня и не думает кружиться!» Ужасная самонадеянность, как скоро мне пришлось за тебя поплатиться — когда собаки подняли шум, я опять, как и на прежнем месте, увидел несколько созданий, относимых мною к рыбьему роду, тогда как остальные причисляли их к роду птичьему. Мнение мое оставалось непоколебимым до тех пор, пока одна из сиих амфибий не подплыла ко мне вплотную, или, собственно говоря, пока она не проплыла подо мной, тут мне пришлось отдать должное истине и признать, что это и вправду был селезень, который, высунув из воды всего лишь макушку, тогда как остальная часть головы оставалась под водой, потихоньку ускользал таким образом прочь от собак. Теперь я хотел уже было выстрелить, но, прежде чем я изготовился, и вообще при первом же движении, которое я совершил, шевельнув ружьем, селезень нырнул и полностью исчез под водой. Однако совсем скоро из тростника выскользнул еще один: я взвел курок, прицелился, нажал на спуск и — к верх тормашками полетел в озеро. Там было неглубоко, и вскоре я встал на ноги, а голова и плечи мои оказались над водой. В ту же секунду я услышал хорошо мне знакомый голос, кричавший: «Париклятье! Кто там упал в воду?» Другой голос отозвался: «Это долговязый копенгагенец», третий добавил: «Возьмите шест, протолкайте туда лодку и выловите его!» Так и было сделано, и, насквозь мокрый, оглохший от воды в ушах и пристыженный, я приплыл на берег и, не задерживаясь, поплелся в усадьбу. Камер-советник, высадив меня на сушу, выразил сожаление — хотя и сдерживая при этом смех — по поводу произошедшего со мной несчастья и предложил обратиться к его супруге, у которой, вероятно, должна была найтись для меня сухая одежда. Мой друг Ханс Миккель взялся сопроводить меня, а остальные после сего недолгого перерыва продолжили охоту, потерявшую теперь в моих глазах всю свою привлекательность.
Еще один ушат холодной воды
Прибегнув к помощи своего друга, я вскоре облачился в сухую одежду; но ах, что за травести! Я был одет с головы до ног в платье из гардероба камер-советника: мне дали нечто среднее между пальто и курткой из грубой шерсти, зеленого цвета, оно было мне чересчур широко и коротко и висело мешком на моем стройном торсе, тогда как рукава порядком не доставали до запястий; еще получил я желтую бархатную жилетку и такого же материала брюки, штанины которых задирались при каждом шаге выше коленей, синие шерстяные чулки и пару сапог, болтавшихся на моих худых ногах. Я не узнавал сам себя, ах, да и Марен не узнала меня, nec mirum[1], ибо что за отталкивающий у меня был вид — полная противоположность модной черной рубашке, вышитой шелковой жилетке, желтым нанковым брюкам и таким же гамашам! Нет, я не ошибаюсь, приписывая своему новому треклятому одеянию случившееся со мной впоследствии несчастье — полнейшая метаморфоза, произошедшая с прекрасной девицей Ламместруп, прежде так ко мне расположенной.
Ежели бы я знал, что она, услада души моей, находилась в усадьбе, воистину — я бы остался в своей уединенной комнате, дождавшись, пока высохнет моя одежда, но судьба, неумолимая судьба, сделавшая меня теперь в мгновение ока объектом своих капризов, решила иначе. С усмешкой на губах, вызванной моим же собственным комичным обликом, вошел я в гостиную, ожидая обнаружить там только лишь хозяйку дома, но — в комнате было полно дам, и в заготовленной мной тираде не было совершенно никакой нужды, мое появление и так вызвало взрыв смеха. Однако же я не только смирился бы с этим, но и от души посмеялся вместе со всеми, если бы там не было ее — той, пред которой я бы с большей радостью предстал в более благородном костюме. Она первой сделала несколько шагов в мою сторону, присела в глубоком книксене и, обратившись ко мне: «Господин камер-советник», справилась о моем самочувствии после жаркой ночи и купания в холодной воде. Пусть читатель не думает, что ее намерением было посмеяться надо мной, ни в коем случае; это скорее была маска, которую она надела, чтобы скрыть под ней свои подлинные чувства, поскольку за безудержным смехом я все же слышал — возможно, лишь я один — голос сердца, который ни с чем не спутаешь.
После того как четверть часа я служил мишенью для отпускаемых озорными девушками острот, мне в голову внезапно пришла мысль, к которой меня, вне всякого сомнения, подтолкнула дурная сторона моего характера: а именно, я предложил присутствовавшим дамам воспользоваться прекрасной погодой и последить в качестве зрителей за охотой, которая — как мы могли слышать по регулярно доносившимся выстрелам — была в самом разгаре. Мое несчастливое предложение было принято: мы отправились — я отправился — навстречу своему падению. Ближе к озеру и тому месту, где проходила охота, прямо посреди луга, возвышался небольшой холм, с которого, как мне казалось, было удобно обозревать происходящее. Чтобы добраться дотуда, нам нужно было пересечь ручей, через который было перекинуто не имевшее перил бревнышко. Я (к тому моменту мой друг Ханс Миккель уже вернулся на озеро, к своим охотничьим обязанностям) перешел на другую сторону как ни в чем ни бывало; но, когда пришла очередь дам, ими овладел страх, и ни одна не хотела быть первой, одна очаровательные ножка за другой вставали на бревно и так же быстро исчезали, отдернутые, раздавались вскрики, смех, но никто не продвинулся ни на шаг. И тут словно опять какой-то бес шепнул мне: «Перенеси их! И твоя возлюбленная тут же окажется в твоих руках!» Мое невинное сердце радостно заколотилось, я озвучил свое предложение — оно было принято. Однако, когда я перешел по бревнышку обратно и протянул к девушкам изнывающие по любви руки, опять ни одна из них не выразила желания первой выказать этим рукам доверие; все охотно предоставляли данную честь другим. Наконец ко мне приблизилась моя задорная фрёкен Ламместруп и произнесла с обворожительной улыбкой: «Я хочу попробовать, но не уроните меня в воду, и не забудьте, что вы уже принимали сегодня ванну». Преисполненный дурной самонадеянности, я уверил, что ей нечего бояться, и поднял ее на руки. Мне тут же пришли на ум слова Хакона Могучего: «Каково сидится тебе?» и тому подобное, но вслух я ничего не сказал, поскольку чувств, переполнявших меня, было слишком много: ее рука — бывшая одновременно и легким перышком, и горячим утюгом, и электрофорной машиной — лежала на моей шее, я был наверху блаженства, я думал «Боже мой», мне хотелось вот так нести ее всю свою жизнь — все равно, по бревну ли, вброд ли — да, именно так! Начало было положено, и теперь так все и пребудет всегда. Ха, десятки проклятий на голову портного, пошившего брюки камер-советника Свирума! Ибо именно они, натянувшись на коленях, лишили мой шаг уверенности. Читатель! Не спеши смеяться! Смеяться тут бессердечно и грешно, однако ты — сострадающая читательница, рыдай! Пер Спиллеман рухнул в ручей со своей прелестной ношей!!! — Пауза! — Ах, если б только этот ручей оказался Летой! Не пришлось бы тогда ни тебе, моя чувствительная читательница, ни мне самому плакать о случившейся черной беде — да, черной! Ибо в ручье было больше мутной жижи, нежели воды, он был грязен, как сам Стикс, ха-ха, и снова тот же вопрос: отчего же не Лета?
Не спрашивай, сострадательный читатель, каким образом мы выбрались оттуда, что сказала она и что сказал я, как громко она кричала, как громко кричали остальные, как мы вернулись домой и прочее в том же духе — сие мне неизвестно. Я не слышал и не видел ничего вокруг; я погрузился в некое подобие грезы наяву и по-настоящему очнулся лишь от восклицания: «Камер-советник Свирум! Ваши желтые бархатные штаны тоже постигло превеликое несчастье». Услышав эти слова, я механически приподнял голову и выглянул из недр кровати, в которой лежал. В комнате стояли все, кто принимал участие в охоте! «Да черт с ними, со штанами! — рокотал господин Ламместруп. — Марен досталось больше, чем штанам, сами подумайте, в каком виде она предстала». «Она жива? — испуганно спросил я. — Ее жизни не угрожает опасность? И она простит меня, несчастного?» «Мы еще вдоволь посмеемся над этим, — ответил он. — Марен и прочие девицы сейчас сидят и трещат вовсю без умолку, потешаются над не будем говорить кем — у него ноги заплетаются при ходьбе». Эти слова он сопроводил злорадным смехом, но я, подобно умирающему, отвернулся к стене и со вздохом процитировал строки:
Разорвались все между нами узы;
Я опален отныне навсегда,
И след ожога впредь со мной пребудет —
Один совет могу всего вам дать,
И всякому, кто дорожит умом своим и жизнью:
Не совершайте роковой ошибки,
Ступив на досточку, висящую над адом!
Отбросьте прочь ее, пока не сверзлись вниз!
Она несет несчастье!»
«Париклятье! — прошептал Его Преподобие. — Он бредит, он заговорил стихами. Ханс Миккель, останьтесь с ним! А мы пойдем пропустим по маленькой!» Все охотники тихонько покинули комнату, оставив меня наедине с безбрежной тоской.
Спустя три дня мы с моим другом уже плыли, покачиваясь, по волнам пролива Каттегат.
Двадцать лет спустя
Завершая свой рассказ, я хотел бы вернуться к началу, где я упомянул, что после путешествия в Копенгаген я совершил поездку в Венсюссель; и вот каков был ее итог.
На своей саврасой лошадке фиордской породы трусил я из Сундбю в направлении усадьбы, где, словно на сцене, разыгрались те странные события моей молодости. Ноги мои короче не стали, и носки моих сапог лениво снимали пенку тумана с травы, росшей по краям глубокой колеи, время от времени подбадривая бежавшую неторопливо и вразвалку лошадь. Так, то верхом, то спустившись с лошади и идя прогулочным шагом, приближался я в обеденный час к старой усадьбе Тюрехольм, в которой некогда родилась прелестная Марен Ламместруп. Я пересек луг, на котором произошла та самая примечательная сенокосная баталия. Копны все еще стояли там, как прежде, но прекрасные амазонки исчезли. «Die hübschen Mädchen, die bleiben fern — o Traum der Jugend, o goldener Stern!»[2]. Я спросил одного из встретившихся мне работников о том, живет ли все еще господин Ламместруп в усадьбе. «Нет, — ответил работник. — Он уже много лет как умер; теперь здесь живет Пеер Мадсен». Я хотел также поинтересоваться, что сталось с моей старушкой Марен, однако, хотя образы двадцати одной — если память не изменяет мне — девушки, появившихся в моей жизни с той золотой поры, затмили образ Марен, я все же боялся услышать, что и она, может быть, умерев, покинула этот мир. Я потрусил дальше, бросив мимоходом серьезный взгляд на дом, который некогда так украшало ее присутствие.
Я подъехал к усадьбе Свирумгор. Озеро лежало передо мной, окруженное тростником. Взглядом я пытался отыскать ручей, тот злосчастный ручей, что поглотил одну из прекраснейших моих надежд. И вот! Проклятие мое достигло цели: бревнышка более не было, его, наверное, давно сожгли — хотя и это недостаточно суровая кара для него; луг весь перепахали, а сам ручей превратился в сухую канаву. «Не живет ли здесь камер-советник Свирум?» — спросил я одного из прохожих, попавшихся мне навстречу. «Он много лет как умер», — прозвучало в ответ. — «Ликуйте, утки, — подумал я про себя. — Плавайте теперь с высоко поднятыми головами по мирному озеру! Никакой Шпион не выследит теперь укромных ваших гнезд, да и моему грузному телу не плескаться более в вашей прозрачной стихии!» Я потрусил дальше.
В Ежегодном Государственном календаре я прочел, что друг моей юности Ханс Миккель нынче служит пастором и принял приход своего отца; я не получал от него ни малейшей весточки с тех пор, как он покинул столицу! «Aus den Augen, aus dem Herzen!»[3] Сменил ли старик Руриколус призвание, или просто удалился от дел, или, возможно, отошел в мир иной — сие было мне совершенно неведомо.
Когда ты добрых два десятка лет не видел друга юности, когда столько лет — богатых событиями, насыщенных новыми переживаниями, лет, полных в равной мере печалей и радостей — утекло с поры, когда вы были молоды и кипуче проводили время вместе, биение сердца никак не успокоится, преисполненное особой радости от приближающейся встречи. Однако очень редко ты находишь то, что ожидал, ибо человек не готовится заранее к мощному воздействию, которое оказывает время. Ты думаешь увидеть друга таким, каким он был, и забываешь о том, что не существует ничего постоянного. Я все еще помнил своего дорого Руриколуса красивым, модным, изящно одетым студентом, любимцем слабого пола, смелым и душевным товарищем, всегда готовым прийти на помощь, жизнерадостным, но сдержанным и соблюдающим приличия в своих увеселениях, я помнил его хорошим теологом, который к тому же разбирался в литературе и любил ее; благодаря этому обстоятельству, последнему из перечисленных, мы когда-то были с ним не разлей вода. Поэтому я уже рвался соскочить с седла и броситься в его объятья, восклицая: «Es waren schöne Zeiten, Carlos!»[4] и прочее и прочее. — Но — все вышло совершенно иначе.
Первым человеческим существом, попавшимся мне на глаза при въезде на пасторский двор, был розовощекий толстяк в сером сюртуке с вытертым ворсом, обутый в деревянные башмаки. На голове у него была старая шляпа с низкой тульей. Этот субъект — я принял его за пасторского кучера или садовника, если он, конечно, не был управляющим — на эту мысль меня навела гигантская курительная трубка из морской пенки, которую он держал в руке — залез на кучу навоза и соломы, окруженный курами, утками, гусями и индюшками, которых он, кажется, силился пересчитать, тыча в них вытянутым указательным пальцем. «Пастор дома?» — спросил я, слегка приподняв шляпу. «Восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто; это я», — прозвучало в ответ. Я вытаращил оба глаза и — только теперь узнал друга юности. «Но господин пастор, — сказал я, — неужели вы меня не узнаете?» Он спустился с кучи и направился ко мне, однако медленно и осторожно, дабы не наступить на крошечных умилительных утят. «Гм, — пробормотал он с безмятежной улыбкой, — кажется, я…» «Стало быть, старина, ты совсем забыл своего Пьетро!» — воскликнул я. «Ну и ну! Неужто ты? — ответил он, протянув мне руку. — Виноват, не узнал! Спускайся же, дружище! Мортен! Прими лошадь у гостя! Она у тебя привыкла стоять в стойле или пустить ее попастись? Ты же останешься у нас на ночь?» «Готов держать с тобой пари — мне лучше ночевать внутри, — ответил я. — А лошадь отпусти ты в поле, пусть попасется там на воле». «Красивый малый, — проговорил он, обходя коня кругом, пока я слезал с седла. — Хотя передние копыта слегка с разметом, да, Мортен, у нашей пестрой Каштанки течка, не забудь отвести ее к быку! Ну же, добро пожаловать! Принеси веревку, Мортен! И навяжи этого малыша в загоне для свиней! И не забудь вставить кольцо в нос свиноматке, она бродит в огороде и роет картошку. Слышишь меня? Входи же в дом (так я и поступил), предайся отдохновению! Что тебе принести для начала? Может, горячительного чайку? Как ты поживал всё это время? Ты постарел. Марен, дай нам чайку!» Последние слова он прокричал, высунувшись из кухни.
Такой прием загасил последние угольки поэзии, тлевшие в моей поостывшей уже груди, и объятий так и не случилось. Тем временем детские головы появлялись одна за другой в дверном проеме, ребятишкам хотелось увидеть незнакомца, одновременно с этим я заметил несколько мордашек в окнах, лица пропали, лишь только я обратил на них свой взор. «Это всё твои дети? — спросил я. — Сколько же их у тебя?» «Столько же, сколько пальцев на обеих руках, — ответил он печально и вяло. — Не знаю, что с ними и делать. Мы из последних сил выбиваемся, чтобы всех их одеть-обуть, кого-то послать учиться, и силы наши на исходе. Что из них получится, когда они вырастут?» Тут вошла его жена с чаем. Я поприветствовал ее. «Узнаешь? — спросил жену Руриколус. — Это тот самый красавец, что макнул тебя в ручей на Свирумгорском озере». И правда ведь! Это была она. Но ах, как же и она изменилась тоже, лицо, фигура и всё ее существо. «Ну надо же! — сказала она с натянутой улыбкой и накрыла на стол для чаепития. — Рада снова видеть вас, столько лет прошло с тех пор, как нам выпала эта честь. Вам добавить сливки или ром?»
Однако к чему утомлять читателя долее описанием сцены, подействовавшей на мою горячую кровь совершенно так же, как винный камень действует на почки и кишечник. Вот так время способно уничтожить красоту, знание, желание жить, способно лишить их красок, превратить в ничто; а всё, что уцелело, будет, скорее всего, разрушено заботой о пропитании, вернейшей пособницей времени.
В пасмурном расположении духа покидал я утром следующего дня своего бедного друга, превратившегося из горожанина в сельского жителя, а в голове моей крутилась немного избитая, но придающая крепости духу фраза: tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Примечания
[1] Ничего удивительного (лат.)
[2] Прелестные девы ушли навсегда, о юные грезы, златая звезда! (пер. с нем.) Намек на строки Гёте и на известное в те годы лирическое фортепианное произведение Фанни Гензель: O Traum der Jugend, O Goldener Stern, Op. 6, No. 3. Примеч. переводчика.
[3] С глаз долой, из сердца вон! (нем.)
[4] Вероятно, немного измененная цитата из пьесы Гёте «Клавиго» (1774). Примеч. переводчика.