Рассказ
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 79, 2022
Журнальный вариант
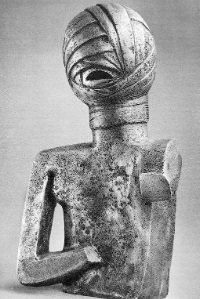
С того момента, как увидел себя в зеркале в форме, захотелось сбежать. Остановило: теперь и отсюда сбежать — дезертировать.
Приснилось: в аду он не выжил.
Вокруг мёрзлое омерзение.
Обрубки деревьев. Обрубки тел. Обрубки металла.
С дул, словно туши с крюков, свешивались не выпотрошенные тела, головой, руками-ногами к земле обвисая. Кровь, словно сок вишнёвый, густая, отхлынула, вытекла, отпузырилась. Даже подсохла, густо сбрызнутая мозгами.
Продырявленные горла сипели. Из пробитых животов, разбухнув, внутренности расползались. Лёгкие под рёбрами неуклюже скукожились. Из мёрзлой земли забитые серой уши, слюнявые губы, пальцы с чернотой под ногтями, сопливые носы грибами после дождя торчали призывающе изобильно.
Огромная тень, отделившаяся от отбрасывающего, от прошлого отвязавшаяся, через это всё перешагивала, уверенно, не спотыкаясь, легко перепрыгивала. К искорёженному металлу искорёженные куски человечины поприлипали: спеклись, не отодрать. Ветер ошмётки кожи носил, куски тел по земле перекатывал. На ошмётках кожи были ошмётки татуировок, собрать бы как пазл и склеить, занятно бы получилось.
Сновидение ушло, вместе с луной и звёздами за горизонт закатилось. Время остановилось. Когда сновидение возвратилось, увидел себя бредущим по замерзающей слизи кровавой, собирающим ошмётки с целью ясной, определённо неотвратимой — составить цельный рисунок, портрет, что-то единое, будто в этом заключена вся цель его жизни, вся его жажда познания, всё желание неуёмное, и только во сне это видение материализоваться могло, словно голые скелеты, плотью облечься. По клочочку, по пятнышку, по осколку линии собирал, словно по звукам словечко, по слову предложение, абзац, страницу жизни, роман бытия. Никто не смел перечить, никто не смел останавливать, мешать ему, всесильному в сновидении. Бродил, вглядывался, дрожал, отыскав, складывал, тосковал, за самым крошечным кусочком, гонимым ветром нещадным, гонялся. И когда осталось совсем чуть-чуть, совсем ничего, без которого, однако, картина не складывалась, абсурд в лицо ему, спящему, сивухой дохнул, плеснул в морду презрением, в харю расхохотался. Кончился сон, на самом важном месте, как водится, надломился, презрительно усмехнувшись. Обманули дурака на четыре кулака. От жирной жадности дыхание спёрло. Во тьме скрываясь, в небытие уходя, задним двором помойно-кошачьи воняя: нравится, не нравится, спи, моя красавица! Не какая-нибудь песнь гейски заморская, пацански дворовая наша, народная.
Готовые, созревшие для новой жизни скелеты, почти, наверное, вечные, тяготящиеся плотью ужасно бренной и скоротечной, казавшейся на них посторонней, скелеты вели себя удивительно вежливо, не толкались, обходили друг друга, старались не задеть, одним словом, были предупредительны необычайно, какими в прежней жизни, телесно обременительной, не были никогда. Получается, раньше бы сбросить их тяготившее? Да, именно так получается. Жаль только, что не сразу до понимания этого дошли-добрели, к тому же почти все получили увечья: колено вдребезги, череп надвое раскололся, короче, для кабинета анатомии не годятся, там нужны целые, войны, тем более глупо бессовестной, не познавшие.
Во многом знании много печали? Кто это сказал? Неважно. Главное: правильно.
Спервоначалу скелеты освобождались от плоти с трудом, медленно, неохотно, оттягивая, словно, выигрывая, тянули время — до жёлтой карточки, только после, точку невозврата пройдя, судорожно, второпях, словно дезертиры погоны, всё срывали с себя без разбора, ничем, самым дорогим и святым не дорожа, словно решились, подобно купцу знаменитому, всё раздавшему и сжигавшему, чтобы супостату-врагу, французу клятому не досталось. Кто рукою водил? Бог или дьявол? Кто это знает. Кто поймёт. Кому охота в тёмной материи этой не досужливо разбираться.
Издали могло показаться, если кто в бинокль смотрел, в стереотрубу или из космоса бесстыже подглядывал, что мужики, парни и только призванные пацанята онанируют напоследок, но это неправда, неверно, не так. Впрочем, кому до них дело? Хоть бы и правда? И что с того, что плоть сдирают с себя, друг от друга стеснительно отвернувшись.
Выжившие, не сгоревшие, не распавшиеся естественные потребности отправляли. Их, отправляющих, было немного. А потребностей ого-го. И они, не выжившие, и потребности на землю кровавую падали. Куда же ещё?
Он? Сгорел и обуглился.
Куски плоти, лишённые кожи, отваливались, на землю, под ноги падали, скелет обнажая. Он видел, как с него кожа сползла — перчаткой с руки, шкурой с плоти змеиной, как тело его отслаивалось от костей, слышал, как воют дикие собаки, шакалы, учуявшие добычу. Он морщился от вони горелого мяса, не удивляясь, что собственный распад, собственное исчезновение вполне ощущает. Грудь оползла, рёбра на удивление целые обнажая, низ живота на ноги почти бесплотные медленно потянулся, и зверьё, предвкушая, в нетерпении зашевелилось.
Мелькнуло: хорошо, что не в ней, вот был бы конфуз! От вида гниющего тела, расползающегося на глазах, стошнило, но вырвать он не сумел — мышцы, отвечающие за это дело, уже отвалились, валялись в грязи: зима кончалась, весна наступала, самая грязь, не пройти, не проехать.
Он ещё не был чистым скелетом, которому в земле лежать и лежать, распаду сопротивляясь, но не был и плотью, единое целое составляющей с голым скелетом.
Мелькнуло: это как бы голый, но не совсем, ещё пару движений перед тем, как к плоти, ждущей тебя, подступиться.
Вздрогнул: как подступиться? Ни рук, ни ног, низ живота отвалился. Что он с ней будет делать? Глядеть — любоваться? Вдыхать её жаждущий запах? Слушать, как бессловно зовёт?
Пока он думал, пока представлял, плоти на скелете почти совсем не осталось. Так, кусочки, клочочки, ошмёточки. Его плоть от скелета его отвязалась, значит, и он от себя отвязался? Если так, где теперь он, от всего и вся отвязавшийся?
Подумал: меня больше нет? Скелет — это не я. Но почему тогда вижу и слышу? Думаю — почему? Представил чудное и дикое: глаза и уши самостоятельность обрели и, словно дух, голый, голодный, над голым обглоданным скелетом и опавшей плотью витают. Голубем над Ноевым судном, который не в силах с родной, хоть и крошечной, сушей расстаться. Лист маслины во рту, то есть в клюве. Теперь он, получается, голубь, над грязью парящий? Если так, зачем ему это море грязной развороченной плоти и голых скелетов без опознавательных знаков, где свои, где чужие — кто разберёт? Может, кто-то попробует собрать, плоть и скелеты соединить. Реставрировать! Вот будет потеха, на огромный скелет сдуру, по пьяни прицепят малое тело: кости торчат, плоть протыкая! Придёт такой, разденется — она глянет: ужас, с кем я связалась. Подумает-поразмыслит, однако, сглотнёт — зажмурится, делать нечего, и так мужики нарасхват, а после войны…
Главное после войны: нет больше войны, как к такому привыкнуть? Всех убили, всех победили, а дальше? Вывалившиеся внутренности собирать, обратно запихивать?
Они выцеловывали, вылизывали, высасывали друг друга, людоедски плотью чужой насыщались, чтобы, наевшись, развалившись рядом, до нового голода переваривать. Наверняка со стороны на них было приятно смотреть: возбуждало. Но никто не являлся. Никто не смотрел. Своё юное людоедство каждый между тем настойчиво переваривал. А близко совсем, почти рядом с ними, щупальцы протягивая, лапами загребая, на них окрысилось время, эпоха из тёмного подсознания выползла — смолоть их в мясорубке гигантской, гнусью телевизионной приправить, котлеты слепить — и жрать-жрать, обожраться, чтобы рвотою подавиться и её обратно в подсознание запихнуть — и заржать, изображая победу, переломанный хребет отравой слов гнусных лелея.
В эти зловонные времена, тягостные, как старческое совокупление, когда давно развалившаяся, разложившаяся, исчезнувшая страна, трупным ядом мир заражая, продолжала исчезать, разлагаясь, распадаясь, дни наступили тихие, безветренные. Похоже, и ветер брезговал ими, гуннами, которые слишком долго были грядущими, чтобы не грянуть, равно как и хамом, который не мог не случиться. Слишком отчаянно их призывали грянуть «ордой опьянелой», «оживить одряхлевшее тело», сложить «книги кострами», «творить мерзость во храме».
Грянули. Случились. Соткались, породив невыносимую пустоту, в которой в безветренной тишине, словно сучья под ногой, как-то треснуло и сухими летними сосновыми иголками заскрипело.
— Ты оттуда, племяш, как можно скорей выбирайся.
— Ты знаешь, где я?
— Знаю.
— Тогда скажи мне куда.
— Куда не важно, важно — откуда. Как только сможешь, беги. Хотя бы на дачу. Там сможешь пересидеть, если её не разграбили. В крайнем случае у соседей пошарь. Объясню потом, они не будут в обиде.
— Ты что, предлагаешь мне дезертировать?
— Хотя бы и так. Тебе надо обязательно выжить.
— Зачем?
— Затем, что ты мой племянник. И сделаешь то, на что я не способен. И затем, что кто-то должен это всё описать. Таких, как ты, на это способных, не много.
— А я если не смогу? Если мне не удастся?
— Всю жизнь будешь мучиться этим.
— А если получится?
— Будешь мучиться тем, что написанное самому событию недостойно, и, вообще, кому нужна писанина. Все писатели себя этим изводят.
— Думаешь, я могу от них убежать? Догонят, отыщут…
— Не думаю. Не знаю. Но постарайся.
— Сбежать — это вряд ли. Но выжить — не против, я постараюсь.
— Ты ведь хочешь стать знаменитым, чтобы не просто читали, но перечитывали, чтобы слава и всё, что из неё вытекает.
— Угу.
— Значит, поговорим о том, что втекает. Что не видит никто. Да и не их дело подглядывать.
— Какая-то труба получается.
— Если и труба, то подзорная. Чтобы зреть в корень успеха.
— Так в какой конец мне смотреть, в тот, где всё крупно и близко, или в тот, где всё мелко и далеко?
— Вопрос правильный. Ответ правильный?
— В оба. И — сразу. Почему тебе самому не описать?
— Давать советы и воплощать — профессии разные. Если бы обеими владел, ты бы хрен от меня хоть слово услышал. Так что раскрывай уши пошире, всё остальное поплотней затвори.
— Раскрыл. Затворил.
— Даже если ты не до конца придумал себя, придётся заново перепридумать.
— Это как?
— Придёт время — придёт понимание.
— Ясно. От меня ничего не зависит.
— Не так. Написать нужно немного. За всю жизнь три-четыре романа. Не больше. Десяток повестей. Пару дюжин рассказов. И мелькать исключительно осторожно. Не примелькаться. Главное, чтобы читали не тебя, а себя! И поверили вместе с тобой в то, во что ты раньше поверил, и помнили то, что ты раньше запомнил. Короче, ты должен лишь намекнуть-подмигнуть, ничего больше делать не надо.
— А с чего начинать?
— С успеха вестимо. Угадать! Почуять! Унюхать! Рецептов для этого нет. Глаза шире плеч, уши в стороны, ноздри раздуты! Рвануть против течения. Но! Когда реке вздумается потечь в обратную сторону, чтобы её первая волна тебя догоняла, чтобы, когда будут тебя голого на кресте распинать, распинающих смыла.
— Их смоет? А с ними меня?
— Ты на кресте! Ты выше всех! Тебя по голым ногам пощекочет. В крайнем случае доберётся до горла. Так даже эффектней. Но выше — ни-ни. Без тебя самой по себе волне и миг не прожить.
— Мне здесь после ада и благодати вонючей жить не хочется вообще. Вот-вот нагрянут и гвоздиками к кресту начнут не спеша прибивать, чтобы дольше, чтобы больнее.
— Ты должен выжить. Тебе есть что рассказать и кому. Так что найди свою сногсшибательную лолиту, отмой, накорми, приласкай.
— Нечем отмыть — вода только в лужах. Корм — не слишком съедобный. Ласкать нечем — руки отвыкли.
— Ну, ты зануда! И вот что ещё. Хорошо бы тебе, милый друг, зануда любезная, писать не по-русски.
— А на каком?
— На любом.
— Почему?
— Потому что в твоём поколении у людей души протухли. А в следующем Господь отказался души родившимся даровать.
— Как же они без души?
— Вот об этом ты и напишешь.
Затрещало, завизжало, заохало. Связь с дядей всегда была не слишком надёжной.
Поднял голову, в отличие от других углов, над его головой не было паутины: брезговал им паучище.
Провожая колонну, длиннобородые, чёрносутанные пропели, побрызгали — окропили, крестили-крестили, осеняли крестом, благословляли православных и правоверных, верующих и не очень, победителей и дезертиров, всех без разбору, никого без благословения пастырского не оставляли. Видно было: очень устали, не первые они у них, не последние. К тому же ночь совершенно беззвёздно безлунная, только фары горят, тьму-тьмущую на куски раздирая.
По приказу верховному поле адовой битвы росным туманом прикрыли от жадных ангелов смерти, мгновенно за поживой слетевшихся, от вражьих глаз завидущих блогеров, спикеров, журналюг, наблюдавших цинично, как, проявляя сознательность и высокий уровень дисциплины, трупы в пластиковые чёрные мешки паковались, словно в спальники, как ворон из дробовиков распугали, зловещее карканье запретив. Информацию об этом просеяли, провеяли, следствия просчитали, представили, и там готовое вычеркнули на хрен из сводок: не было, нет и не будет, а что до ада, то это не наши погибли, это враги сами себя расстреляли и аккуратно упаковались, сами понимаете, с нашей дисциплиной и разгильдяйством подобное никак невозможно, значит, это враги. Только они на такое способны, по указке, понятно. И вообще, во избежание нервяка, кривотолков и недомолвок: не было ада, был рай с произрастанием дивных плодов, со всяческой лучезарностью и невинностью населения. А если змий и был когда-то — изгнали, святой истинный крест, православным духовенством яростно в кураже освящённый.
У въезда в город столбик с названием повалили и у выезда тоже. Нет больше названия. Нет больше на карте. Нет больше в памяти. Теперь здесь они, живые ещё, пространство пустое и безымянное патрулируют. Чтобы вражья нога не ступила. Чтобы вражья рука столбики не подняла, имя пустоте не вернула. За именем потянутся жители. Начнут друг друга ночами любить. Будут свадьбы, крестины и похороны. Для всех событий и время, и место отыщется. А что же они? Убьют — орден дадут. И не спросят, что предпочитают: жизнь или орден?
Он лежал себе, отдыхал в хорошем настроении, в Чапаева победив, следя, как по потолку тень космато ползёт, из их скудного бытия мохнатой лапой смысл убогий зачерпывая, лежал себе, размышляя о том, кому бы душу продать? С дядей бы посоветоваться, что там с этим на рынке. Конечно, абы кому не хотелось, и надо быть осторожным: слишком много фейковых покупателей душ развелось.
Недалеко от их лежбища зашумело. Затем отблески, просверки, блики.
Прапор двоих послал на разведку: свои или чужие, велев, что бы ни было, максимум через час возвратиться. Не тут-то было. Не возвратились. Вместо них напротив дома два танка пригрохотали. И началось.
Ударило, ужалило, защемило, замелькало, задрожало, запрыгало — согнулся, упал, ноги-руки безвольно, бесстыдно раскинув, его отключили, забанили, каркнули прощально вороны, дядя, напутствуя, ему подмигнул, пронзительно призывно дудочка засвистала, и он, задорно и дерзко в ответ ей запев, дезертировал.
Они оказались везучими. В зоне их патрулирования людей не осталось. Убивать не пришлось. А это всем было стрёмно, прапору даже, хотя ему для карьеры это было как раз. Бэтээр, танк, любое вражье железо — это да, за милую душу, а душа, даже вражья, лучше не надо даже здесь, где от жизни до смерти один шаг, одна пуля, растяжка одна.
Разведчикам повезло: их взяли в плен. Остальным не предложили. И они, включая прапора и чемпионов-чапаевцев, свои кандидатуры не выдвинули. Видимо, постеснялись.
И больше никому из них ничего не мечталось.
Было одуряюще скучно. До одури вонюче и грязно. Всё было грязно снаружи, всё было грязно внутри. Воняла одежда, воняла еда, ноги воняли в сапогах и без, воняли руки и изо рта, мысли воняли. Мыло, шампунь — ничего уничтожить грязь и вонь не могло. Так и будет, пока его не убьют, до конца жизни будет вонять.
Вонь разнолика и разнообразна, полна неистребимых оттенков, нюансов, словно букет дорогого вина. Сравнение, конечно, не очень, но ничего другого в голову не приходило. Зато всё чаще приходило другое: какого хрена он себе всё это выдумал? Какого чёрта в люди попёрся? Дерьма что ли не видел? Здесь его больше, только всего. Конармия. Бабель. Великолепные типы. Живая народная речь. Типы серые, по большей части бухие. Речь — из телевизора, на междометия и звуки утробные распадающаяся.
Скучно. В первые дни гонка: быстрей-быстрей, азарт близкой победы, торжества справедливости, хлеб-соль, рушники, салют, блокнот за блокнотом — потом разберёмся, расшифруем, напишем и издадим. Ничего. Передаём по буквам: первая — Николай, Яков — последняя. Назад бы. Но — дудки. Дверца захлопнулась — сиди и не рыпайся, пока не приедем. Ночью дёрнули — днём были на месте. Слегка по сторонам ворон постреляли и — заселяться. Других птиц больше здесь нет. Наверное, вороны их поклевали: валите, самим неуютно и холодно.
Увидев, сразу узнал. С родителями и сам приезжал погостить к дяде-и-тёте: лес, речка с песчаными берегами, усыпанными сухими иголками, сосны высокие, отец говорил, корабельные, дом недавно построили, сад только тогда посадили. Теперь дом пора ремонтировать, в саду снимать урожай. Только до урожая надо дожить, живя вонюче и грязно.
Пацанва из сёл, небольших городишек. Из больших городов он один. От груза двести круги по воде небольшие. Шум хорош от побед. Трупы желательны в тишине. А лучше без них. Труповозка — мобильный крематорий — принимайте подарок с письмом благодарственным. Груз двести, оказывается, пришёл из Афгана: вес гроба плюс труп, до двухсот получается. Надо знать, чтобы не было перегруза.
Слова вымолвить не с кем. Вообще, слова здесь не в моде. Ощущения просты, как мычание, вот, и мычат. Чуть сложней — междометия. Остальное — редко, по случаю, что-то давно позабытое, из жизни прошлой, ушедшей, в небытие или ещё куда — непонятно.
Всё остальное — ясно, понятно. Оружие — чистить, технику — охранять, бдить — повсюду враги: хохлы, укропы, бандеры и нацики. Жёлто-голубое — срывать, трезубцы — уничтожать, тырить — всё, что плохо лежит.
Всё здесь плохо лежит: машины, магазины, дома. Через несколько дней магазины — пустые, дома — взломаны, машины все — раскурочены. Только фебсы шныряют, себе отбирают.
Везде жителей мало. В основном старики и старухи, которым никуда не дойти, не доехать. На улицу не выходят. А здесь, похоже, совсем никого. Они патрулируют с автоматами наизготовку. Но их никто не тревожит. В первые дни постреляли — укропы слиняли, потом попробовали двинуть вперёд — по башке получили, грузом двести затоварились по нельзя, так и застыло. И — смертная скука. Ракетами из Чёрного моря стреляют, даже из Каспия, а им — патрулировать.
Часто попадаются консервные банки. Страшно тянет пофутболять. Догадывается, что и напарнику: отводит взгляд неохотно. Друг друга стесняются. Так и идут, от банок и друг от друга взгляд отводя.
Хуже всего — дом дядин рядом, под боком, иголками усыпанный берег. Дядя и раньше здесь не жил — наезжал, теперь подавно в нём пусто. Дядя известный их, врагов, дипломат, место работы: ООН. Наверняка теперь бегает по кабинетам оружие собирает. А что, если…
Глупость. Пустое. У всех на виду. На глазах — за день слова не скажут, не мяукнут, не промычат, чуть что хватятся — заорут, забегают, всех подымут, муха не вылетит, а вылетит — вместе с ней всю живность в округе поймают и перемучают. От них не сбежишь. Такие идиоты, как он, на вес золота. Журналюги за ними следуют, как некогда, маркитанты. Тем надо было нажиться, продав, этим нажиться, выудив полуживые слова. С пацанвы спросу нет. Мычание в эфир не поставишь, морды бычьи в телевизоре не нужны. Гвардейцы очень желательны. Кремлёвский полк на параде. Нет гербовой — хотя бы несколько слов на внятном, без пипиканья языке. И не отвяжешься — это приказ, вот и мекаешь, изображая барана. Журналюгам тоже осточертело, но у них своё начальство, не терпящее возражений.
На войне все друг на друга орут. Даже когда тихо, когда не стреляют. Самый-самый — на генералов, генералы — на офицеров, те — на прапорщиков, они — на солдат, которым остаётся одно: друг на друга орать да иногда на прапорщиков, если не выдержишь, но это чревато.
А дядин дом рядом. Близко локоть да не укусишь. Там и припасы что надо. Если, конечно, не добрались, не разграбили. Конечно, разграбили, нечего думать. Вообще, думать не стоит, надо приказ выполнять. Прав прапорщик. Прав. Много думать — быстро состаришься. Состаришься — никому ты не нужен — никому не нужен — тогда помирай.
Честный человек прапорщик Петровых. Не плагиатор, мудрых слов себе не приписывает. Всегда добавляет: как говорил мой учитель прапорщик Колупаев. И в знак того, что цитирует правильно, крестным знамением себя осеняет. Прапорщик Петровых — человек мудрый, современный и толерантный, от подчинённых креститься не требует. Прапорщик Колупаев ему тщательно объяснил, что мусульманам крестное знамение совершенно не в масть, не говоря о том, что редко, конечно, но попадаются, не дай Бог, иудеи, с теми не просто, держи ухо востро. Так он, Петровых в свободные от военных действий часы, имея привычку какую-нибудь палочку-веточку обламывать, пока не кончится, уверенно нарративничал, на мягких лапах к вверенным душам осторожно подкрадывался. Его можно понять, можно и посочувствовать: ежели что, ему, прапорщику Петровых, а не кому другому, даже учителю его прапорщику Колупаеву, не сносить головы, проще говоря, оторвут башку вместе с яйцами — и без пенсии в родное село кукарекать и крутить коровам хвосты.
Интересный тип Петровых, прапорщик милостью Божьей, или не очень? С одной стороны, прапорщик со всем из этого вытекающим в виде звуков, притворяющихся словами, которыми он не частил, вылавливая не спеша, подсекал осторожно, снимая с крючка, любовался, укладывая рядком. Больших не ловил, но и кошачьей мелочи не было. Надо думать, такие крючки подбирал: не мельчил, не замахивался.
С другой стороны, весь на виду: внутренний Петровых с Петровых внешним совпадал почти без зазора. И в диалог эти Петровых не вступали. Оба были привержены мыслям значительным, формам большим, без всяких деталей, так что дьяволу в этой почти святой простоте, свойственной коренному народу оттуда, где ни паспортов заграничных, ни тёплых сортиров, угнездиться было никак. Так как? На этот вопрос он пытался ответить, но так и не смог: вонь мыслить мешала, не говоря уже о грохоте гусениц на дороге, измывающихся над и без того коррупционным асфальтом.
Они тогда при этом присутствовали. Дядя асфальтоукладчик на полдня сманил, и все дорожки, площадка у дома, короче, всё, что пожелал, обрело вид дипломату желанный и соответствующий, и не дорого — так брату тогда объяснял.
Братья в одной стране родились, но родители разошлись, взяв по сыну, разъехались, как вскоре оказалось, не только по разным городам, но и странам. Когда их разлучили, братья друг от друга отвыкли, но подросли, вспомнили родную кровь, перезванивались часто и редко встречались. У дяди с женой детей не было, и единственный племянник получал регулярно дорогие подарки и внимание дяди, который не всегда был дипломатом в галстуке-пиджаке, но большую часть жизни был, как говорил отец, разгильдяем — слово произносилось с остановкой после приставки, давая понять, что в виду несколько иное имелось.
А был дядя… Кем только не был. Актёром, военным, психологом, политтехнологом, дворником, писателем, женат был несколько раз, дружил с бывшими жёнами, всех на юбилеи свои собирая. Одним словом, классный, тот ещё дядя. Что на фоне чиновного не на слишком высоких позициях папы у юного племянника вызывало дикий восторг, желание всячески подражать и поддерживать связь. Нередко они зависали в зуме часами; у дяди в ООН свободного времени было хоть отбавляй, а племянника он любил: родная душа, склонная к разгильдяйству, слово это даже с отлучённой приставкой употреблялось недолго: племянник подрос, и дядя вернулся к оригиналу, не только в этом случае, разумеется. С подачи дяди он и начал пописывать, дядиных текстов, опубликованных и ещё нет, начитавшись. Он ему подражал, от чего дядя отваживал всячески, как умел: «У тебя своё время, своя эпоха, потому и писать должен иначе».
Дядя обожал сюжеты с оставленными по ходу тайнами, к которым спустя порядочные куски текста возвращался, предлагая читателю новые, словно дразнил, приглашая в погоню за ветвящейся мыслью, ловившей его, словно рыбу, предлагая наживку, иногда и не очень достойную. Но, в конце концов, не всё даже у гениев получается. Таких крючков в его собственной жизни было немало, только некому было тайны её разгадать, узлы, ловко и крепко завязанные, распутать. Ему были эти узлы интересны, он пытался дядю расшевелить — колись, дядя, колись — но тот в свою постель даже его пускал неохотно, под настроение, разве что одеялом прикрывшись. К тому же зум — много ли выспросишь.
Отец? Днём папаша чиновничал. Вечером папа чаёвничал. Ни днём, ни вечером, надо отдать отцу должное, его жизненным устремлениям преград не чинил. Имел хобби: будучи нрава смирного, можно сказать, несколько апатичного, любил не примуса, но часы починять. Так что дом тикал на разные голоса, время вразнобой разнообразно отсчитывая.
На этом фоне и шла его юная жизнь, пока — разные катавасии — не очутился в одном месте с парнями, кулаком владевшими лучше, чем словом, курившими и матерившимися без перерыва, мывшимися не слишком часто и тщательно, воюющими под непосредственным руководством прапорщика Петровых, ученика прапорщика Колупаева, судьба которого была ему неизвестна. Хотелось спросить, но было неловко, а вдруг тот ушёл в мир иной, погибая, защищая, или что-то ещё, что могло затронуть нежные струны души прапорщика Петровых.
На этой войне у него свободного от борьбы с врагом времени было достаточно для того, чтобы, если не роман написать, то повесть. Решил начать всё же с рассказа. Конечно, хорошо бы сразу на компе. Но — война, приходится по старинке ручкой в блокноте. Вспомнил один дядин рассказик: он — покалеченный в катастрофе, она — медсестра, между ними — любовь, короче, как говаривал дядя, рама, куда картины секса вставлять. Но — время другое, другая эпоха. Поэтому он — на войне покалечен, в плену, нога в гипсе от лодыжки и до того, вместо неё — снова он, вражеской армии фельдшер или там санитар, любовь — это на все времена, в эпохи любые.
А тогда катавасия случилась такая. В общем, обычная. Уже на первом курсе учился. Со школьными друзьями-подругами затеяли вписку. Человек десять, мальчик-девочка, всё честь по чести. Можно сказать, старомодно. Принесли кто, что мог. Но кто-то не пришёл, кто-то не то притащил, короче, закуски было совсем ничего, зато выпивки — хоть залейся. Вот, и залились. С места в карьер, галопом, через час все были пьяные голыми парами по углам. Через полтора часа веселились все вместе, всё перепуталось, потом в дверь позвонили, откуда-то малолетки свалились, через полчаса пьяные, они, мальчик и девочка, со всеми уже веселились. На следующий день их родители объявились, подняли хипиш. С какой, казалось бы, стати? Что они малолеток зазвали? Те не знали, куда направляются? Или малолеткам было впервой? И не такие уже малолетки. Трепотня в пользу бедных. Взбешённые результатами воспитания, родители, людишки не из последних, жалобу накатали, всех стали таскать, родаки отмазать его не могли, и подальше от катавасии решил в люди податься, жизнь посмотреть и себя ей, не слишком казистой, в обмундировании показать. Тем временем, однако, там поутихло, купюры, прошелестев, малолеткам утраченную девственность возвратили, но у военной машины хода обратного не было.
Раньше он сочинял. Черновые наброски судьбы по выражению дяди. В голову приходило — записывал. Получалось на реальность очень похоже. Здесь пытался записывать то, что видел. Выходило выдумка, блажь, ни на что не похоже. Спросить бы дядю, но где дядя, где зум, куда всё это делось? Вместо этого были прапорщик и братва, которые жить ему очень мешали, но от которых никуда не деться, никуда не сбежать. Разве что внутрь, в себя самого. Но и там, когда сбежать удавалось, было не по себе. Пробовал, было, писать, но война очень мешала. Отменить бы войну, но тогда о чём же писать? Ничего кроме вписок в его жизни интересного не было.
А там?! Политологи, орнитологи, косметологи — все всполошились, мечутся, слюной брызгают, друг друга пытаются перевизглявить, во всех грехах, которыми боле не могут грешить, обвиняют, ложку мёда в бочке дёгтя стараются, язык высунув длинно, опасливо облизнуть. Волна времени отступила, обнажив дно, на котором копошение не прекращается в ожидании новой, уже подступающей. И надо всем: монстр обезумел. Только пусть не думают, что он маленький монстрик плешивый, нет, он, если и бредит, то настойчиво, уверенно, сомнения в последствиях не вызывая. Когда не происходит ничего, всё, что угодно, может случиться.
— Что делать? — излюбленно, всяческие убедительности начисто отвергая.
— Жребий бросать, ожидая, когда монета, покувыркавшись в воздухе, восстанет против однозначности, встав на ребро. — Словно кишки, вываливая всяческие откровения под виски с дребезжанием льда.
Что скажет Серафим шестикрылый? Тихонечко так вопрошают. И вслед за этим (только по губам близко стоящий умудряется прочитать) на сумасшедшего с бритвой в руке очень косвенно намекают.
Лишь один маленький поэт зело сумасшедший по имени Гриша орёт себе и орёт:
Жил-был царь,
та ещё тварь,
и его мудилы,
те ещё крокодилы,
и его советчики,
ни за что не ответчики,
и его народ,
тот ещё живоглот.
И чё? Да, ничё! Что с Гриши получишь-возьмёшь?
— Жрать! — призыв мощный, всех спящих, мечтающих о жизни иной, мгновенно в реальность с раскрытым от жадности ртом возвращающий.
Подозревал, что не только он от неё убегает. Каждый — в свою, где тепло и уютно спать в кровати с чистым постельным бельём, а не вповалку. В доме кровать и диван. На кровати, как и положено, прапорщик Петровых почивает, на диване — сержант Левченко, чистый хохол, угораздило со своими сражаться. Чёрт ногу сломит теперь, кто свои, кто чужие. Раньше думали, славяне и чурки, славяне и пиндосы проклятые, а теперь? Спор славян между собою? Александр Сергеевич, сколько же спорить? Так недолго проспорить всё навсегда.
Жрали молча. Чавкая и сопя. Если бы не кончилось, продолжали бы жрать. Всё равно делать нечего. Теперь будет чай. Закипел. Разливаем по кружкам. Пакетики набухают. Растворяется сахар. Когда это кончится? «Не очень скоро», — оптимист заявляет. «Никогда», — пессимист поправляет.
Вчера за чаем было объявлено, что сегодня к чаю священник пожалует окормлять православных. Петровых произнёс малознакомое слово с удовольствием, очень округло и многозначительно, добавив в конце, что Ибрагимову не обязательно, остальным приготовиться, припомнить грехи досконально для исповеди, попы подробности любят, но это не обязательно, то есть окормление обязательно, послушать, что говорит, а исповедь — для желающих.
На исповеди не был он никогда. Может, попробовать? Как это чужому рассказывать о своём? Думал об этом весь день, оказалось напрасно: прапорщик внёс уточнение, сегодня тот не приедет, видно, отпеванием занят. Так прапорщик пошутил.
С самого начала, с первого дня прапор, подбадривая команду, покрикивал. Похоже, им, начальственной мелочи, хвоста накрутили, велев дальше крутить по команде. Может, пытались азарт возбудить: молодые ребята, война, ура, победители, ничего в жизни не видели, и вот — перед ними весь мир расступается. Может, и был где-то азарт, но не у них. Петровых покричал-покричал да притих, для поддержания духа, боевого или какого, пытался шутить неумело, не смешно, иногда жутко глупо. Чувствовалось, вот-вот что-то случится — всё разлетится, по закоулочкам клочки полетят. Петровых всё время куда-то звонил, что-то просил, что-то доказывал, прикрывая трубку рукой, чтобы вверенное его попечению воинство тайну страшную военную не проведало, и, не дай трижды Бог, под монастырь его подведя, разбежалось. Они бы и разбежались, только куда, не зная местности, не понимая куда бежать и на кой. С одной стороны, неизвестно где свои, которые по головке сбежавших не гладят (прапор непременно погладил бы себе, намекая), с другой — укропы только и делают, что с рашистов скальпы снимают, с третьей, неизвестно, кто в спину пальнёт, с четвёртой — и вообще. Куда бедному солдату податься? Прошёлся по улице патрулём, направо-налево позыркал, автомат перед собой выставляя, и возвращайся — жрать, гонять чаи, курить сигареты и на шутки прапора скалиться пока ещё вполне белозубо.
Вовне было серо безрадостно. Внутри безрадостно сиро. Смурная жизнь. Сыро и вовне, и внутри.
Он пытался писать. Пытался о том, что видел, слышал, и про пацанву, и про большое начальство, которое видел не часто, и про выстрелы, и про трупы, которые никто не убирал, короче, писал обо всём. Писал, но фразы никак не кончались, зависая, словно дряхлый компьютер, будто жизни в его словах не хватало, чтобы хоть как-то закончить пусть даже не цельную мысль, но фрагмент, обрывок, который когда-нибудь можно будет развить и закончить. Он не знал ещё, что, если сразу не складывается, то потом уж тем более. Вспоминал, как раньше всё получалось, иной раз даже дядя нахваливал, подчёркивая фразы, слова и письмом ему возвращая. Вспоминая, удивлялся, куда умение делось. Подстёгивал себя, говоря: «Писать, брат, трудно». На что отвечалось: «А воевать, значит, легко?» Так невольно случайной в общем-то фразой противопоставлял писание самому дикому делу — войне.
В нелепой дикости, в которой вдруг, неожиданно очутился, всё потеряло границы, одно в другое переходило странно и призрачно, словно один предмет другой продолжал, прорастало одно из другого. Даже между днём и ночью стёрлась граница, образовались единые серые сутки, мутноватые, склизкие, будто явь от сна больше не отделялась, как добро от зла, правда от фальши и лжи. Если раньше наместником Бога был Папа Римский, то теперь прапорщик Петровых. Раньше такая реальность в самом страшном сне присниться не смела. Теперь и сны были совсем ни о чём. Спали урывками: надо было дежурить, нести караульную службу, что казалось верхом идиотизма, кому нужны они в этой глуши, куда их чья-то глупость или злонамеренность определила. Всё время хотелось вдруг вскочить, всех напугав, и заорать, весь страх и ужас из себя извергая бесконечно долго без слов, мыча, мяукая, лая, рыча, воя и прочее бесконечно звериное, не воплощающееся в слова. Его сейчас, его настоящее было слов не достойно, что ж удивляться: фразы не смеют ничем завершиться, выразив пусть самую скудную, но мыслишку.
Война получалась совсем несуразной: ни тыла, ни фронта. Где свои? Где чужие? Летали ракеты. Свои или чужие? По своим или чужим? Весь фронт и тыл в едином качестве были они с бетеэром под окнами дома, на втором этаже которого жили, выходя патрулировать пустыню с трупами кошек, собак и людей. В них не стреляли, ракеты-бомбы на них не летели, словно брезгуя мелкой шпаной, воняющей войной, отсутствием женщин, сном вповалку, перегаром и табаком.
Дядин дом рядом. Совсем в двух шагах. Если не разграбили, то наверняка найдётся компьютер. Может, даже работает интернет. Кому его грабить. Здесь только они. И прапор бдит, чтобы служба неслась по уставу, а вверенный ему контингент на его глазах отдыхал. Мелочно придирчив он не был, на мозги не капал, но и вольностей не позволял. Жители сбежали, ну, может, кто-то прячется подальше от окон или же в погребе.
Надо было бы, пусть не для души — для блокнота, с каждым из друганов, случившихся ему, пообщаться: кто, откуда, чем занимался, по возможности подробности выудив, пригодятся. Не получалось. Да и другие между собой о прошлом не говорили. Может, не было интересно? Или сегодняшняя трясина всех их по уши засосала. К тому же война. Тихо, тихо, но ракеты летают, пока хорошо, что далеко. А если… К тому же, местные озверели. Говорят, все стали злыми бандерами, у каждого оружие — власть раздаёт, того гляди сдуру выстрелит и зацепит. Получается, то ценное, что мог здесь обрести, шкурой рискуя, ему не давалось. Или всё ерунда? Что могут они сказать, деревенщина, туповатая, необразованная, себе на уме? Одним словом, его отношение к ним было похоже на то, как породистая дорогая собака смотрит на приютских дворняг сыто и свысока, даже не лая.
Встречаясь, братья раз от разу произносили всё больше слов, всё меньше понимая друг друга. Он это чувствовал — не понимал, слишком был мал. Но чем меньше друг друга они понимали, чем слов было больше, тем более были они осторожными, аккуратными: не задеть, не обидеть. Спроси, что друг от друга их отделяет, не сразу и скажут, вероятней всего, промолчат. Слово за слово — и покатится, покатится — понесётся, понесётся — не сдержишь. Потому говорили, говорили на разные темы, обсуждали бог знает что, постепенно пьянея, но контроль за словами держали строжайший: вылетит — не поймаешь, не поймаешь — нужное улетит, ненужное — ранит. Когда вырос, наблюдая их разговоры за непременной бутылкой, сжимался, ожидая: вот-вот, что-то сорвётся, и будет невозможно назад повернуть. Его в разговор не пускали и правильно делали. Он ведь обет осторожности не давал, чего сморозит — придётся на скользкую обочину с дороги сойти. У дяди то и дело мелькало: человек, редко — народ и страна; у отца: страна, народ, почти никогда — человек. Реалий сегодняшнего дня они избегали: там разномыслие становилось наглядней и ощутимей. Нить, связывавшая братьев, перетиралась, вот-вот порвётся, но, почувствовав близкий разрыв, они испуганно отскакивали, словно, так он сейчас это себе представлял, являлось видение братьев Авеля, Каина. Каждый из них ни тем, ни другим быть не желал, хотя немногие неосторожные слова, как ни осторожничай, проскакивающие между ними, именно туда, казалось, неотвратимо тянули. Хорошо, что в последнее время дядя уехал за океан, встречи иссякли, а всякие поздравления были стерильны и безопасны.
Лежал себе в углу, сон не шёл, вспоминал. На чьей он был стороне? Ясно, на дядиной. Но и за отца было обидно. Старший, он наступал, иногда порываясь неразумного меньшого учить уму-разуму. Вот в такие минуты он вздрагивал, представляя — воображение далеко уводило — отца Каином, скупую жертву Богу творящим. Скупость — зависть — убийство. На зависти цепь разрывал. Странно, но с младшим было трудней. Чувствуя свою правоту, тот, так он себе представлял, хотел довести всё до конца, не слишком зная какого. В самом деле, не поднимет же старший на младшего руку. Не сойдёт же старший с ума, а пусть и сойдёт — не поднимет.
Лёжа в углу, чувствовал: цепь соединилась. Видимо, задремал, потому, когда лязгнула, вскрикнул. Из разных углов и закоулков их общей берлоги, потрясая косматыми тенями, вскинулось и замычало, выражая удивление, сочувствие и много ещё чего, которому названия не было, а если и было, то в берложной вони их сгинуло, в дыму табачно-сивушном исчезло, в звуках нечленораздельных пропало.
Внимание к его углу, однако, было недолгим. В разных углах-закоулках время от времени такое случалось. Ко всем периодически сквозь слой настоящей гнусности прошлое, какое ни есть, но всё же хоть чуть-чуть человечное, пробивалось. Тогда углы вздрагивали, кричали, но успокаивались: живы, живы, живы ещё, будет день, будет и пища, будет свет, будет и жизнь, помоются, попьют-поедят, безумие не вечно, на смену ему придёт или жизнь, или смерть, всех не перебьют они, и их не всех перебьют, кто-то останется род продолжить, не опустеет земля, ракеты-снаряды когда-нибудь да закончатся, не заставят же их драться ножами, кулаками махать, а если заставят, не станут, Господи благослови их несчастные души.
— Уши! Уши не отморозь! Опусти крылья ушанки! — Кто-то кричит ему, и он послушно, сняв шапку, развязывает узел мокрый, не поддающийся, наконец, получается, натягивает ушанку, становится вскоре тепло, и он засыпает, проваливаясь из вонючей берлоги в снега, которые снеги, в слова, которые не звуки бессмысленные, в давнее прошлое, когда дядя с отцом выпивали, не тратя силы на осторожности. Он снится себе совсем ещё юным, с лицом ещё чистым от заскорузлой щетины, с душой, ещё не ведающей о Каине-Авеле. Он уже прочитал. Он уже знает. Но эта странная сказка к его существованию никакого отношения не имеет. Мало чего в книжке напишут. Читать он любит. И не просто читать. Иногда, когда не нравится, писателя поправлять. Зачем убивать? Можно перетереть. Перетереть — перетерпеть — перемелется. Мука сыплется — вареники лепятся — варятся — всплывают, съедаются: с вишнями, с творогом, с черникой, и всё — со сметаной. Какого хрена на бетеэре припёрлись? Чтобы среди трупов по улицам пустынным шастать, того гляди, скоро волки появятся человечью падаль сжирать. Жрут волки падаль? Надо погуглить. Зачем? Интересно. А не припёрлись бы, приехал бы к дяде, показал последнее из блокнота, и в отсутствие надзора отцовского усидели бы с дядей бутылочку: признал бы в нём взрослого. Может, и в Америку бы позвал. А что? Почему бы и нет. Только — с неба на землю — теперь и в Египет не пустят, хрен знает, что у них на уме. Что?
Вопрос повис без ответа. Какие вопросы — такие ответы. Если вопрос не вопрос, то ответа не будет. Ни к чему. Не дождётесь. Раньше такое могло испортить ему настроение. Теперь настроение не могло испортить ему ничего. Мутная, непроходящая тупость. Какое тут настроение? Его не было вовсе. Нервы, наверное, затупели, а то и вовсе отсохли. Попытался вспомнить, когда последний раз он смеялся? Плакал? Хоть насколько-то повышенным градусом реагировал? Не вспомнил. Карандаш сточился, не пишет, оставляет след, царапающий, неровный, и нечем его заточить — ни ножа, ни точилки. И сна нет. Дремота. Мутная. Бесконечная. То ли спит, то ли нет. То ли бредит, то ли на самом деле видит такое, что и во сне не приснится. И так всё время: от границы, они её лентою называли, и до берлоги. Это потом понял: граница. А когда проезжали, дорога вильнула, во что-то упёрлись, потом дёрнуло, снова поехали. Никто ничего им не рассказывал, может, и сами не знали, кроме, вперёд по дороге.
Всё, надо если не уснуть, хотя бы вздремнуть. А то выдернут — автомат, броник, айда патрулировать, распугивать полумёртвых ворон, полуживые тени и совершенно, навсегда мёртвых покойников. Мёртвое тело усопшего трупа. Ха-ха-ха. Дядина шутка. Теперь так он не шутит. Вообще не шутит теперь. Не до шуток. Мать честная, что же так грохнуло? Где-то близко. Неужто на дядину дачу, идиоты, нацелились. Говорили, с точностью до метров научились стрелять за тысячи километров. Вот и эти придурки, наверно, бабахнули откуда-то с севера, а хоть бы и с юга, ему совершенно без разницы. И на хрен им дядина дача? Может, думают идиоты, это он там скрывается, от исполнения долга солдатского злостно там уклоняется, с какой-нибудь девахой из местных или приезжих, главное, временно живых, на скорую руку, ха-ха-ха, живенько, наспех сношается? Им завидно. Сидят, в экран пялятся, цель отыскивают пожирней, а он с девкой играется. Во что? В любовь. Во что же ещё? Цель отыскали, докладывают по начальству: так, мол, и так, дом вражьего работника ООН и его дезертир-племянник в придачу с особой пола противоположного сексуальные действия совершает. Начальство уточняет: чей дезертир, наш или ихний, какого рода сексуальные действия? Смотрят внимательно. Спутник ближе подводят. Окуляры нацеливают. Дезертир чисто наш, с зетом на попе, поза монастырская, фрикции быстрые, в минуту около ста, похоже, сейчас совершится. Приказ: не допустить эякуляции — уничтожить! Пуск! Дебилы, завидуют, не дают кончить, засранцы. Того не поймут недоумки, что, пока долетит, он два раза кончить успеет, если, конечно, по-быстрому. Кончит, отдохнёт и по новой продолжит. Молодой, энергии, сексуальной в особенности, хоть отбавляй, а они, кретины, промажут. Только как бы в их лежбище не угодили. Пацанва, хоть чужая, но всё же своя, да и прапорщик вовсе не сволочь, хотя по должности ему и положено.
«Вставай, брат, одевайся, пошли!» — его трясут, он очумело оглядывается по сторонам, в мутных сумерках прапора различает, кряхтя, корчась, встаёт на колени, потом с колен вместе с родной страной поднимается, расправляется в гомо эректус, хотя вблизи на него не слишком походит, броник, автомат, на первый этаж, дверь в мир пустой открывается: бетеэр на месте, не спиздили, грязь, трупы со слезами, намёрзшими на шеках, деревья чёрные, голые. Туда-сюда и обратно. Зырк в одну сторону, зырк в другую. Под ноги, в небо, там без звёзд, и обратно. Рядом рядовой, как его, это неважно, его движения повторяет, как эхо, нет, эхо это ушное, если зрительно, то, наверное, тень, что о хождении не за три моря этом писать, что об этом напишешь, туда-сюда, жизнь — смерть, и обратно, нет, от смерти пути обратного нет, оттуда никто не возвращался, ну, как же, бывает, умирал-умирал и не умер, с полдороги вернулся, сколько можно ходить, уже холод в штаны проникает и в рукава, скоро в трусы заберётся, тогда захочется писать, но это уставом караульной службы настрого запрещается, кто это сказал, где об этом написано, не сказано и не написано, потому как писать и ссать таких понятий на воинской службе нет и не будет, пока не внесут, вот, станет он генералом, а лучше фельдмаршалом, нет такого звания в русской армии победителей, нет и не будет, но было когда-то, вот тогда-то и будешь, дурачок, устав исправлять, вносить новшества по поводу естественных надобностей отправления во время исполнения, а пока топай себе по грязи фельдмаршал непобедимый, Суворов, Крым покоряющий, наш Крым — это круто, есть такое местечко Круты, что-то там было, происходило, в учебник истории звонко попало, иначе как знал бы откуда, от верблюда знал бы, вестимо…
— Эй! Ты чего?! — напарник его окликает.
— Эй! Ничего! — напарнику отвечает.
— Ты как лунатик!
— Ну, и что? Лунатики разве не люди?
— Может, и люди. Только в армию их не берут.
— Почему? Откуда ты знаешь?
— Не знаю, а думаю.
— Надо не думать, а знать.
— Чего?
— Да того. Потому что на «о».
Это сражает. Аргумент. Наповал. Поговорили. Так сказать, пообщались. Заодно вспомнили несколько слов. Странно. Без мата. Как это? Потому что, наверное, тет-а-тет. Это в толпе русскому человеку, российскому лучше сказать, а ещё лучше не говорить, без мата никак невозможно. А тет-на-тет, оказывается, очень даже возможно. Надо бы чаще в патруле в разговорах практиковаться. Слова вспоминать. Не повесят на площади, не убьют — пригодятся. Только шансов немного. На войне ангелов нет, они первыми погибают. За ними — те, кто в блокноты что-то записывает.
Мимо трупа прошли. Одного и второго. Лежали спокойно, руки-ноги во сне разметались. Будто что-то тревожное, тяжёлое больше не снится. Посмотрел — позавидовал. Идти не хотелось. Лежать очень хотелось. Лечь и лежать. Что приснится — приснится. Никто и ничто сну не указ. Над снами ни прапоров нет, ни генералов. На этой войне их тоже, говорят, убивают. Убьют генерала — событие. Не то что солдата. Процент убитых генералов намного больше, чем солдатни. Вот так. Процентная норма при наступлении, при отступлении. А при сидении сиднем? В берлоге? Под командой прапорщика Петровых? Какая там норма? Какой его процент остаться в живых? Этот шанс можно на что-то махнуть? Этот шанс конвертируем? В золото? Валюту? В слова? Если да, то в какие? Наши ли, ваши? Попробуй разбери, где ваши, где наши. Тряпки все повязали, теперь одинаково грязные. Рот откроют — дикие звуки шальные, слово прорвётся — не разберёшь, на одном языке говорят: военно-звериная тарабарщина. Словарь тарабарщины. Словарь новояза. Главное слово: спецоперация. Войну вычеркнуть навсегда. Зачеркнуть. Чёрным замазать. Не произносить ни вслух, ни шёпотом, ни про себя.
— И когда это кончится? — неожиданно вырвалось вслух, сломав все преграды, прорвалось.
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего не имею.
— Зачем тогда говоришь?
— Не смолчалось.
— Бывает.
— Закурим?
— Я не курю.
— Тогда, может, споём?
— Запевай!
— Что?
— То, что хочешь.
— То, что хочу, не умею, а то, что умею, я не хочу.
— Раз так, то молчи.
— Я и молчу, спросил, когда кончится.
— И что ты ответил?
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего.
— Nevermore.
— Это что?
— Ничего по-вороньи.
— Не заливай.
— Правду тебе говорю.
— А на кой мне твоя правда? У меня есть своя.
Открыв дверь в подъезд дома, где берлогу устроили, вытащил из кармана платок, посмотрел на него, но было темно, отёр рот и, подумав, сжал в кулаке и отбросил. Всё равно, брезгуя, в последнее время, как все, рукавом вытирался. С этой решительной мыслью отворил дверь, та скрипнула жалостно, словно голодный котёнок, и впустила его и напарника, точней, напоследок ойкнув, всосала. Вместе поднялись и по всем правилам доложились, как прапор любил и всячески разными звуками поощрял.
Двое вошли — двое вышли. Наблюдение за завоёванным населённым пунктом приказано вести непрерывно. Вот и вели, разбавляя патрулирование диалогами, размышлениями о бренности жизни земной и рвотой. Жили-были, так сказать, не слишком тужили. Хотя тужить — дело сугубо индивидуальное, так что кто его знает.
И в этом тоже неясность, неопределённость. Сбился фокус. Туман. Морок. Морока. Фата-моргана. Всё проморгали. Оазис в пустыне. А на самом деле глупость, видение, жестокий обман. Их всех обманули. Кинули. Объегорили. Сделку между хозяином и работником заключали до 25 ноября, дня Егория, он же Георгий, Жуков, Победоносец, между победой и ложью, плотью и памятником небольшой промежуток, зазор незаметный.
Его обманули. Как и всех, обманули. Но и он обманул. И все обманули. Ожидания тех, кто их обманул. В него не верили. И он в них не верил. Разобрать бы их по частям, ненужное выбросить, сломавшееся починить-заменить. И себя соответственно. Тогда, может, что-то исправится. А может, и нет. Ещё вопрос: с чего начинать? С себя? С них? Одновременно? Когда? Завтра? Вчера? Сегодня точно уже не получится: поздно, темно, устал, в сон клонит, надо ложиться. Вот, завтра, тогда, конечно, прямо с утра, после завтрака, в крайнем случае, после обеда, или сразу же после ужина.
Вернувшись и доложившись, под перекрёстными взглядами разбрелись по углам. Хорошо было кому-то когда-то из углов переписку затеять. Такое теперь невозможно. Кому писать, о чём и зачем? Тем более, как? Интернет не работает. Компьютера нет. Телефоны, сволочи, отобрали, обещали живым отдадут. А мёртвым? Им отдадут? Интересно, однако, если бы была такая возможность, из этого угла, он в сотне метров от дядиной дачи, что ему, врагу, написал бы прямо в ООН, дяде-врагу-дипломату? Попросил бы разрешения дверь на даче взломать, если ещё не взломали? Книги взять почитать, если их ещё не спалили друзья или враги? Бутылочку-другую из заветных недр позаимствовать, если те или другие не выжрали? Или новыми словами из военного словаря своего поделиться? Что сказать человеку, если Волга больше не впадает в Каспийское море? Куда теперь впадает она? Или никуда не впадает? Да и куда что может впадать после того, как все впали в безумие. В конце концов, берлога № 6 всех их всосёт, живых и мёртвых, друзей и врагов, все слова позабывших, и тех, которые ещё немножечко помнят.
Грюкнуло. Прогрохотало. Разорвалось. На этот раз совсем близко от них. Прапорщик осторожно зыркнул в окно: свои или чужие? Хрен разберёшь. Из одного и того же стреляют. А повязки на грохоте нет. Ни на ноге, ни набедренной — никакой. За милую душу крышу порушат, в окно влетит или стену пробьёт. За милую душу свои или чужие под звуки гимна этого или того, склонив знамёна, гроб, если сыщут, в землю опустят.
Так:
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Или этак:
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Конечно, вмерла или усміхнеться — это вопрос.
Понятно, хранимая Богом, или дьяволом искушаемая, тоже не ясно.
Что определённо, что точно? Бабах в небо салютом! Вот и отпели!
Если будет, конечно, кому. Потому что положение их случайной малины очень капризное. В любой момент о них могут вспомнить и приказать двинуть в любом мыслимом направлении, разве что не в небо и не под землю. В движении они одиноко совсем беззащитны. В любой момент могут засечь, достать миной, снарядом. Двенадцать человек во главе с прапором — добыча лёгкая, чик-чак — и медаль. Остаётся мучительно приручать неизвестность, за которой кто-то, так казалось ему, пристально наблюдает.
Кто? Лёжа в своём углу, скорей, полусидя, прикрывшись всяким тряпьём, которого в доме полно, от нечего делать, полушутливо так, стал вычислять. Враги? Сразу отмёл. На хрен им это нужно. Схватить, повязать, отмудохать — это, конечно. Но — следить? Братья по оружию? Оно им надо? Нет больше забот? К тому же, какие братья они. Даже не сёстры. Размышляя и разные версии отметая, пришёл к выводу, что рассмотрения достойны лишь две: Бог или дядя. Даже, может, на пару. Стал взвешивать, судить да рядить, возникло ощущение, кто бы ни был, он или Он явился, чтобы соединить распавшееся, разломавшееся починить. Мысли мелькали всё медленней, затем, едва шевелясь, поползли, сморило, и отключился без сновидений, кошмаров, словно кто-то из оставшихся версий защитил крепким сном — толстым защитным экраном от всяких мерзостей, глупостей, несуразиц, которыми полна жизнь, военная — тем болéе.
Сюжет должен быть ломким. Так дядя его поучал. Движется, стелется спокойно, читателя усыпляя, и вдруг — бабах, круто в сторону или даже назад, или водопадом с высоты. Вывернуть, повернуть, огорошить. Если бы он свою судьбу сам сочинял, так бы и поступил. Но его судьбу за него сочиняли, их дядя ничему не учил. Всё жвачкой тянулось: жевать надоело, вкус давно высосан, а выплюнуть неохота. Спать неохота и просыпаться, неохота жрать и срать неохота, не говоря о том, чтобы в полном тяжёлом прикиде шляться по улицам пустынного городка, из которого в последнее время даже кошки-собаки убрались: то ли их от не хрен делать славные воины постреляли, то ли, войдя во владение, крысы прогнали, то ли заклевали вороны, так ли, сяк ли — убрались, исчезли, на глаза не попадались. А то, что происходит где-то там, за глазами, и вовсе не существует. Они на глазах друг у друга и прапора-командира только и существуют. А выпади из поля зрения, значит, пропал. Был? Не был? Не вспомнить ни имени, ни лица. Все они на одно лицо стали. Как китайцы для европейца. Как пропойцы для трезвого. Как кто-то ещё для ещё кого-то — до бесконечности, тягуче резиновой, как их дурацкая жизнь под одной крышей в одной войне, им нежданно-негаданно приключившейся. Им бы всем озлобиться, вызверившись, злобу срывать на другом, но нет, получалось иначе: взгляды мутнели, они растекались в пространстве, превращаясь в единую желеобразную массу, студень из ножек свинячих без хрена, без зелени, без соли, безо всякого вкуса. Что ни ели теперь, было безвкусно, даже мудрости, которыми потчевал угасающий прапор, не вызывали ни улыбки, ни даже кривоватой усмешки. Ничего не было. Ничего не происходило. Только война вокруг, они посередине, слепленные из пластилина, пальцы их слепившего грязные, пальцы в крови. Лепил из пластилина, а руки в крови? Как это? Или на войне всё иначе, нечему удивляться, бесполезно пытаться представить, кто всё это лепит. Попытался — ничего не сумел, из пустой черноты ничего не прорезывалось, только слышен лепет шуршащий, тонким писком приправленный. Наверное, крыса. И сразу из чёрной пустоты, моментально — огромная самодовольная морда крысиная с лысой макушкой, зализанной волосёнками, редкими, тонкими, в такт словам шевелящимся. Крыса говорила уверенно, словами не брезгуя, глядя перед собой неподвижно, остекленело, с трудом скрывая желание пасть отворить и гнилыми зубёнками ядовито загрызть всех до единого, начиная с врагов, друзьями кончая. Впрочем, какие у крысы друзья, если сбиваются в стаи, то, как они, случайно, волею судеб ненасытных к крови и нежити, желтоватой, белёсой, слезящейся, сочащейся с растрёпанной бороды. Она за плечом каждого из них, не по своей воле здесь очутившихся, на задних лапах стоит, в любую минуту готовая своё дело крысиное сделать: сдавить пальцами горло, повалить, утащить. Непонятно, как это делает. Ни пальцев, ни рук, ничего. Стоит? А как? Да так: не стоит, а находится. Откуда явилась — неведомо. С какой целью — понятно. Интересно, за мудрым прапором тоже стоит? Или тот настолько в делах и заботах, настолько ответственностью за выполнение долга повязан, что за его плечом никто встать не посмеет? С этим надо бы разобраться, просто необходимо, от этого дальнейшее непреложно зависит. Откуда он это знает? А вот, знает, и всё. Таких вещей в жизни много: взялись ниоткуда, сами собой появились, и допытываться откуда, зачем бессмысленно, бесполезно. Какая польза от их пребывания здесь, нет, не их, это его не касается, какая польза от его пребывания? Для него? Никакой. Для кого-то? Не его дело — кого-то. Смысл? Ни пользы, ни смысла. Раз так, ему здесь очень не нравится, надо уйти. Убежать. Сделать ноги. Иначе говоря, дезертировать. Откуда — понятно. Не ясно — куда? Как это не ясно? А дядина дача? Разве она случайно оказалась под боком? Или нет, не так. Разве он рядом с ней оказался случайно? Значит? Дача — это прекрасно. Чай душистый, варенье, как и сад, непременно вишнёвое, разговоры обязательно задушевные, русские мальчики разных национальностей, девушки в белых платьях, касания нежные, трепетные, взгляды разнообразные от беглого до бесконечного. Господи, чего только не происходит на даче. Вот об этом писать, не о войне, глупой, бессмысленной, грязной, об этом, о даче, о любви чистой, воздушной, горячей, трепещущей, не о вписках с известной целью допиться, дотанцеваться до дивана, чтобы утром имя по пути в душ с трудом вспоминать. Трудный путь. Тошнотный. Пахнущий ночью. А то и смердящий. Как повезёт. Ему везло часто. Но помнилось всегда самое скверное. Что за мерзкий характер. Что за гнусная память. Помнить самое гадкое. Нет, чтобы светлое, дачное, вишнёвое, чайное. Потому — надо сбежать. На хрен ему этот прапорщик, тому, конечно, влетит, если не придумает, что его подчинённый пал смертью храбрых, сражаясь с врагами, уложил роту и сам поник головою, так что надо его наградить щедро, посмертно. А где тело героя? Крысы сожрали? Как до последней косточки? Конечно! Вражьи крысы ведь ненасытные, а плоть наших героев вкусна и прекрасна, особенно филейные части и гениталии. Желает быть он героем? Героем, у которого крысы сперва гениталии, затем филейные части и только потом всё остальное сожрут? Желает? Нет, не желает. Потому надо валить. На дядину дачу. Они ведь не знают ни про дядю, вражьего дипломата в ООН, ни про дачу, полную чудесами. Не станут же обыскивать весь этот посёлок. Да и на кой нужен этот племянник, то ли герой, то ли дезертир, поди разбери. Никто разбираться не будет. Не те времена. Бандиты? Герои? Пусть остающиеся на вопросы эти ответят. Ему некогда. Ему надо валить. Приспичило. Если что, извините. Вам же лучше. Одним ртом будет меньше. Его пайку сгрызёте крысино. А ему доброго пути пожелайте. Здесь, правда, близко. Всё равно, хоть не долгий путь, но пусть будет добрым. К тому же, мало ли, крысы, свои, чужие, все злые, у всех автоматы, люди на взводе, бабах — и нет дезертира. Нет. Не так. Дезертир — если на даче. А по пути — несчитово. За нереализованные намеренья ведь не судят? Не так ли? Опять так ли, сяк ли. Заладил. Или валить или заткнуться. И спать. А что, сейчас разве не сон? Конечно, нет. Что же тогда? Действительность? Реальность? Но такой гнусной действительность не может быть, потому что не может. «На перекрёстке особо двигаться осторожно», — кто это, кому? Прапор дачнику и дачнице юным, не слишком осторожным в любви и умелым, идущим чёрную пустоту сторожить — родине великой с автоматом служить. Рассвело. И ногу свело. Надо встать. Надо попрыгать. Порыгать, подрыгать. Потом?
Потом прежде тихие, смирные бесы взбесились. Сидели-лежали в позах развратных, скучали, чай пили, баранки грызли зубёнками острыми, из варенья вишнёвые косточки добывали, облизывали, друг в друга щелчками пуляли, валились навзничь, из-под тряпья голые ноги к небесной тверди вздымали, органы бесовские половые обнажали, всячески безобразничали, и — вдруг понеслось, закрутилось, метельно, снежными хлопьями лики профанные залепляя, лишь носы оскоплённо торчали, по стенам дёргалось лохмато-космато, словно пьяные любовники прелюбодейство творили похабно и невпопад. А за всем этим в голом воздухе мысль прыгала, чем-то своим, мыслительным, дрыгая, мысль простая и скользкая, словно угорь, по огромному мокрому лугу к жизни ползущий, чтобы добраться, поплыть, крутясь в мутноватой воде, извиваясь. Если как угорь, то, понятно, мысль была не простая, но жирная и копчёная, вьюном вьющаяся, петляющая, завлекательно плутовская, как раз затейливо к пиву — не банальные сухарики-раки, а изысканно, не мыслишка ведь — мысль. Раз жирная, значит, не юная, скороспелая, вчера родилась, сегодня ползёт, взрослая мысль, зад обвисший, брюхо над поясом нависает, ну, всё такое, кому надо представит, а если тупой, что тут поделать. Всё понятно, всё очень ясно, только о чём мыслишка, никак не понять. О бренности жизни? Мысль свежая, только ну её, мысль, куда подальше, чтобы не мучила, не изводила, не соблазняла. О бесовстве мысль? То же не ново. Мало ли. Дневник писателя. Турки. Проливы. Константинополь святой златоглавый. Псков. Монастырь знаменитый. В кого бесы вселились? В того, от кого и сбежали, на стены прыгнули, изводя его с дядей, на пару попивающих неторопливо: букет крайне разнообразен, оттенки вкуса отменны, выпьем, племянник, за успехи твои, за твоё великолепное дезертирство. Тебе, брат, повезло несказанно. Обычно людям, твоего возраста пацанам в особенности, некуда деться. Ну, припадёшь, ну, вздрогнешь, ну, успокоишься телом, если очень свезёт, то и душою. И что? А дальше? Вставать, подниматься, описывать: кто сумеет, в деталях, кто не — тот гладко, как все, хорошо, если без пошлости. И что? Некуда им дезертировать. В отличие, милый мой, от тебя. Вот она дача. Пусть не рай земной, но не лежбище, грязное и вонючее, с крысами, бесами, разнузданно похотливо солдат донимающими. А те просыпаться никак не желают. Лучше живым спать в дерьме, чем просыпаться мёртвым, чистым, обмытым. Товарищи позаботились. Сердобольные старики-старушки случились, чистым, заласканным и изнеженным, на безволосой груди поправив крестик серебряный, в хрустальный гроб положили. Пройдёт время, царевна спохватится, наймёт коня, пустив с места в карьер, полетит. Трава под копытами не успеет примяться, просвистеть стрела не успеет, не сумеет враг навредить, как раз в миг последний поспеет, гроб хрустальный откроет, в губы погибшего поцелует, рядом с ним ляжет, так и окрутят их, кто живой, мёртвый кто, не разбирая. Так и будут век- вековать, царский, фейковый век, ужасно продажный мёртвый царь с царицей живой, или наоборот, это неважно, главное, что, наконец и во веки веков жизнь, смерть поправшая, со смертью, поправшей жизнь, обручилась. Воистину! Обручилась! Радуйтесь! Аллилуйя!
Только настроился чарующие звуки аллилуйи услышать, как из одного из углов забренчала гитара, которую в качестве трофея один из захватчиков одолжил у кого-то из временно оккупированных и по этой причине в доме отсутствующего. В результате получилась музыка хрен знает чья и какая, если музыка вообще, а слова лохматого рыжего, которого все так и звали, а как звать ещё, если рыжий? По имени, по фамилии, что ли?
У меня на планете война,
И моя в этом ясно вина,
И она меня тащит ко дну,
За вину свою, братья, тону.
Ишь ты, у него на планете. Мания величая, Рыжий. А у меня, получается, ни войны, ни планеты? Так не пойдёт. Давай переделывай. У нас, брат Рыжий, хотя ты мне не брат, это просто слова такие, понятно? Так вот, не-брат Рыжий, наша война, наша вина, хотя какая к чёрту наша? Планета — ну да, чья же ещё? А война — не наша, а их, не я, ни ты в ней не виноваты, и я, по крайней мере, я в ней каяться не желаю. Что это, твою мать, за принуждение к покаянию? Я не Каин, а кто ты, мне насрать. Тем более что, не знаю, как ты, но я никого не убивал, не задел даже пальцем, может, я вообще пацифист, только об этом не думал, было не до того. А до чего? А какое дело, Рыжий, твоё? Закрой рот, если тебя тащит ко дну, тони спокойно, без слов, Рыжий, не гвардии рядовой, и никого с собой не зови. Понял? Ну, и вали!
Такую рецензию он про себя сочинил, но опубликовать не решился: Рыжего любили, а кто прав, кто виноват, не вникали, стараясь ни во что вообще не вникать: не вникаешь и вникаем не будешь, понятно?
Лёжа в своём дальнем пригретом углу, решил себе конец счастливый придумать. Вдруг повезёт? Вдруг случится? Лучше судьбе заранее подсказать, как с ним управляться. Война кончится — хорошо. Домой всех отпустят — прекрасно. И? На круги своя? К началу, обратно? Похоже, на этом подсказка судьбе себя исчерпала. Что делать дальше, не знал. Судьба, может, и стала податливей, сговорчивей: война — заслужил. Придумай и подскажи. Теребил себя и пришпоривал. В надежде даже рот открывал — само, может, вылетит. Не вылетало. От тупого бессилия захотелось плакать, рыдать, звать на помощь. Кого? Отца-мать — смешно. Дядю? Не честно. Он всё-таки враг. И где он? Ни телефона, ни адреса. От бессилия мелькнуло: может, мудрого прапора? Получается, некого больше. Остаётся одно: премудрые крысы, интеллект выше средне-животного. Пусть бы так. Только после войны встретить крысу не просто. Завидят — тут же травить. Химическим оружием, анти-крысиным.
Счёт дней они потеряли. Вчера? Завтра? Какая разница, если одно и то же? Всё было мутным, нечётким, неясным. Почему время должно быть чётким и ясным? Вспомнил дядины рассуждения, что древнему человеку было вчера или завтра до лампочки, которой не было у него. Одно и то же слово обозначало «перёд» и то, что было, прошло. «Будущее», «спина», «сзади» — словом единым. Чмошность какая-то, бесконечная и бескрайняя. Дикость. Понятно: они одичали, впали в чмошность, и когда это кончится, если кончится вообще, совсем не факт, что вернутся, и прошлое отделится от настоящего, и где-то там будущее каким-то тусклым огоньком замерцает. А может, после всего что они здесь творят и того, что с ними здесь сотворили, вообще всё изменится? Кому они, уроды, людей убивавшие, из домов на хрен всё растаскавшие, будут нужны? На лбу у них будет написано что-то, или знак какой появится, отметина Каина, только будут обходить десятой дорогой. А может, закон примут: ввиду крайней опасности, непредсказуемой агрессивности тех, которые, дозволяется, встретив, убивать хоть из чего, даже камнем каким из рогатки, то есть пращи, по примеру Давида прекрасного, изваянного голым из негодящего мрамора Микеланджело Буонарроти в городе Флоренция когда-то давно, а может, не очень, кто его знает и кому это важно?
Пожадничал. Пережрал. Будто жратвы не хватает. Привезли как на полк. Склады переполнены — разгружают. А если что, то в округе пошарить — не одну армию прокормить. Люди запасливые. И абы что здесь не жрали. Знает по дяде. Тот хамон-пармезан привозил. Не только напитки. Чем-то надо закусывать? И у соседей дяди губа тоже не дура. Сел повыше, чтобы не подпирало. И какого хрена? Наперёд всё равно в случае чего не напасёшься. Тем более что вперёд — значит назад, в прошлое, в темноту. В архаику — дядя сказал бы. А отец? Промолчал бы, он в последнее время с дядей не спорил, видно, устал: они спорили с детства, с тех пор как младший словарный запас накопил достаточный, чтобы брата бесить. Правда, не слова были в их спорах аргументом решающим, а что попадало под руку и на голову оппонента, треща, опускалось. Вот бы кому-нибудь чем-нибудь врезать. Бабах — чтобы голова, как орех, раскололась, и мозги, похожие на орех без скорлупы, обнажились.
Так вот оно что. Это не Рыжий співал, это белка песенку пела про войну, пор вину, опускаясь ко дну. Так это она бошки раскалывала, из скорлупы золото добывала, из мозгов — изумруд. Так это великий классик, мать его, заране подстроил, тем более что нет ни прошлого, ни будущего, даже хренового настоящего нет. Куда ни кинь — всё нет, да нет. Что же есть?
— Дядя, что есть?
— Ничего нет. Всё — пустота.
— А мы с тобой?
— И мы — пустота.
— А слова наши?
— Пустые.
— Не верю.
— То же мне выискался Станиславский. — Послышалось: славский, славский, и — кий.
— Давай сыграем?
— Как? Ни стола, ни шаров.
— Зато — кий.
— Ну и?
— Будем кием пустоту протыкать.
— На холст чтобы наткнуться с нарисованным очагом?
— Хотя бы. Видишь, за пустотой что-то есть.
— Глупыш-малыш, за пустотой — мечта, пустота.
Та-та-та. Застучало, застрочило, затихло. Дядя исчез. Может, убили? Или до ООН им не дотянуться, далеко и вообще. Телевизор, отрубленный прапором, пыльно серел. Но что-то там шевелилось. Безмолвно. Бессмысленно. И беззвучно из экрана выдвинулись две чёрные мохнатые лапы, развернули мешок и, словно капусту, голову его туда уложили. И он задохнулся. В задушенной пустоте сперва царила тьма-тьмущая. Затем искорки редкие заблестели. Прошелестело. Так что, хоть и было ужасно, но человек ко всему привыкает. Вот и он задышал как-то судорожно, рыбой на берегу, раздувая жабры, как паруса, одним словом, обвыкся. Здесь было ужасно скучно, совершенно одиноко, очень тоскливо. Поговорить бы с дядей — куда там. Он бы и на Рыжего с виной-войной согласился. Да что Рыжий — пусть даже прапор мудростью какой огорошит. Вскоре пустота стала какой-то неполной. То там жало-свербело, то здесь. Не сидится и не лежится. Не встать и не сесть. Что-то давит, что-то покалывает. Пустынный принц на горошине, которой нет и в пустоте быть не может никак.
Когда к этому положению привыкает, прежняя пустота исчезает, сменяясь новой, там пусто всё, только звуки капель, долбящие камень, не говоря о голове, уставшей от передряг и всяким сором, липким, ужасным, до отвращения замороченной. Звуки капель он странно чувствует кожей, по которой те бьют легко и щекотно, затем всё сильней, наконец, это тяжёлые струи: не видит, но знает, капли, струи, теперь уже водопад — это кровь тех, кого не убил, но убивать которых назначен. Почему не убил? Это капли-струи-водопад крови с вопросом? Молчит. Затаив дыхание, ждёт, чем это кончится, чем новым наполнится пустота, какая новая ждёт, что с этой случится. Кровь пустоту заполняет. Чем-то она должна заполняться? Не так ли? Именно так. Кто отвечает? Откуда? Из плутархово сравнительной пустоты? Сам спросил, сам ответил? Кровь течёт, пузырится, пустота не бесконечна, всю заполнит кровь — что же дальше? А дальше — пузырь мыльно-кровавый лопнет, взорвётся.
— Дальше — больше.
— Как?
— А вот так. — Сама пустота отвечает, изгаляясь над глупым, голые пьяные вписки на кровь променявшим. — Промахнулся — плати. Это тебе не девчонок молоденьких, навалившись пьяно, кровавить. Сколько было таких?
— Какое вам дело? Немного. Достаточно.
— Хочешь назад?
— Отпустите — убегу.
— Куда?
— За кудыкину гору.
— Врёшь. К дяде на дачу сбежишь. Дезертир.
— Здесь вам не сортир. — Это прапор не в первый раз заорал, достали его подчинённые, на всю шоблу орёт, — всё на хрен засрали! Подручными средствами территорию, всем подъём, убирать!
И его растолкали, приобщив к общему подвигу — срач убирать. И правда, они данное Богом, случаем и войной пространство в хрен знает во что превратили. Специально не били — побилось, особенно не ломали — всё поломалось, не гадили — и вот тебе на. Кругом был бы прапор их прав, если бы только не был он прапором. А это никак не исправить. Никакая операция не спасёт.
Здесь у них срач и тихо, недвижно. А на той же войне грохочет, матерится и умирает, бешеным клипом, мелькая, несётся. И нет у него больше сил. Больше так невозможно. Он лопнет. Его разнесёт. Взрыв будет атомный. Мегатонный. Весь мир белым туманом забрызгает. Не отмоются. Больше не может. И как кодло терпит? Может, им и не надо. Быть такого не может. Надо. Терпи, казак, и дальше про атамана. На хер быть атаманом, чтобы терпеть? Он атаманом быть не хочет, терпеть не желая.
В отличие от него, вроде бы как немного мажора, до войны, до чумы почти все из их компании, участники вписок были не прочь подработать, особенно летом. Повадились за город, в ресторан широкой публике не слишком известный, в определённых небедных кругах знаменитый. Обычно брали на побегушки на кухню. Работа всю ночь. Жили на месте. Однако! Приехал с другом. Давним, можно сказать, закадычным, с тех самых пор, когда вслед за набухшим сверху у девочек снизу начинало и у мальчиков набухать. В двенадцать вместе хихикали, в четырнадцать попробовали в очередь один за другим, в шестнадцать обсуждали со знанием дела. В восемнадцать между делом обменивались впечатлениями. В промежутке поэтически своё кредо определил:
Секс анальный, секс оральный,
Сольный секс и секс банальный,
Секс на тыщу, секс на грош,
Всякий славен, всяк хорош!
Поехали поглядеть, примут, не примут, а если да, как устроится. Предстали. И тут же, с ног до головы осмотрев, его пригласили не в кухню — официантом, что было ого. Отказался. Очень жалели. Вместо гербовой друга его пригласили, в одиночном номере разместили, показали-рассказали, а ему — надумаешь, приезжай. За лето друг заработал прилично. Появлялся официантом, не главным — подручным, туда-сюда, потом дама ли, кавалер, другу было без разницы, приглашали, и чаевые были не просто ого — однодневное сбывание мечт плюс нередко немалое удовольствие. За деньги? И что? Не грубили, не дурили — ласкали. Во-первых, не пахнут, прав император Веспасиан, во-вторых, пахнут копейки, серьёзные бумажки шелестят радостно и призывно. В-третьих, от дам и кавалеров, а то и обоих, пахло духами производства совершенно не местного.
Чтобы поддержать боевой дух вверенной части, их командир, мудрствуя довольно лукаво, решил соревнование учинить на звание лучшего чапаевского бойца, для чего расчертил таблицу, вписав все фамилии, кроме своей, отыскал чёрно-белые шашки и всех без всякого исключения заставил сражаться. Отказ или сдача без боя не принимались и даже преследовались отлучением от сладкого, которым служил в крошечных пакетиках джем разных названий с одинаковым вкусом, что яблочный, что сливовый. Вкус джема был приторно нестерпимый под стать Чапаеву, занятию нестерпимо тупому. Хотя, если подумать, чего ему никак не хотелось, это единственная игра, кроме кто дальше плюнет или нассыт, или подушками драться, которую они ещё могли потянуть. Возможно, прапор, размышляя о том, чем их занять, сам с собой варианты плюнет-нассыт (подушки сразу отпали за неимением достаточного количества) и рассматривал, но своими сомнениями о жизни, подвигах, славе начальствующий над ними никоим образом не делился. Так что можно было лишь предположить, что эти варианты ввиду умножения антисанитарного срача были отвергнуты. Конечно, спервоначалу прапорские мозги заскорузло отщёлкнули строевую подготовку и построение, но вовремя сдали назад, испугавшись бунта бессмысленного и беспощадного.
Чапаев требовал не только удали, но и смекалки, хитрости и недюжинной технической кисте-локтевой подготовки. Осознав это, личный состав в свободное от патрулей, жратвы, физиологических отправлений и соревнований время занимался самоподготовкой, которой могли бы позавидовать в любом сумасшедшем доме планеты. Их бы туда! Пусть бы сумасшедших таинству Чапаева научили! А они здесь, на глупой войне прозябают. Не разговаривают, не сплетничают — шашечками, то белыми, то чёрными, как будто это имело значение, всё равно по своим, очень метко стреляют. Их бы на волю! Пусть на воле стреляют! Так нет же, мучают взаперти: вдруг враг живой явится — кто убьёт? Кто? Потому ко всему прочему личное оружие чистили: чтобы не заросло мхом, не заржавело, напротив — стреляло.
Играли они вначале в два круга, потом в четыре, на десять готовились перейти. И тут случилось такое, чего никак произойти не могло. Не могло, но случилось. Хотя, если подумать, к этому шло. Но думать никому не хотелось. Трудно представить, но даже их командир думать ни о чём не желал. Чемпионы, он их прозвал оглоедами за неуёмную жадность, всех азартней играли, чмокая, шмыгая, всех побеждали, а когда друг с другом сходились, тут уж святых выноси не выноси, ничего не изменится, сгорит обязательно. Да и сами святые, которых здесь не было ни на стенах, ни в красном углу, которого поэтому не было вовсе, ни на полу, короче, нигде, сами святые выноситься никак не желали, наблюдая, как оглоеды, чудеса чапаевской техники и его же волю к победе граду и миру являя, друг друга побеждают, даже проигрывая. Они были чемпионами берлоги бессмысленно и беспощадно во веки веков, аминь по этому поводу на корню отменяя. Такая история. Палата номер один за неимением пяти предыдущих, положенных по уставу, неустанное повторение которого ранее прапор предполагал ввести в дополненье к Чапаеву, но потом передумал, махнул рукой и плюнул, дальше всех, разумеется, никто это оспаривать не посмел, про себя полагая, что нассыт дальше всех, прапора не исключая.
Как-то от нечего делать решил читать мысли однополчан, для чего надумал смотреть на каждого долго и пристально. На удивление кое-что получилось. Даже не кое-что, а весьма. Конечно, не сразу. Выбрав объект, удачно с фланга его обойдя, двинулся вперёд, но дальше были потёмки, оказалось: чужая душа.
Главная мысль у всех была, понятно, одна. Но и другие оригинальностью не отличались. Страх, все боялись всего, главное — умереть без страха и без упрёка. Такие герои. Эксперимент, хоть и удался, но быстро ему надоел. Лишь прапора гнусным читательским взглядом не тронул, опасаясь такое в нём прочитать, что беды не оберёшься. Оно ему надо?! Лучше стихи сочинять. Вот так для начала.
Чернеет парус одинокий,
чернее тучи чёрной он,
прошли все мыслимые сроки…
Дальше не получалось. Рифма не находилась. Всё время, отталкивая других кандидатов, нагличая и хамя, в строку рвался гондон, но похабщины не хотелось, и он его не пускал, пока во сне тот сам не свалился, использованный и неприглядный.
Всю дорогу его подмывало организатора и вдохновителя Чапаева невинным вопросиком искусить: так, мол, и так, как вы, товарищ командир, полагаете, Верховный, жонглирующий нашими черепами, в Чапаева побеждает или наши чемпионы его как два пальца? Представил, как прапор, багровея, вздувается, и стало мучительно больно. Тот ведь никому ничего плохого не сделал. Что ж, если прапор, то всё? Подумал немного и благоразумие проявил. Иначе наверняка в свой угол был бы на гауптвахту отправлен, ясен пень, совершенно бессрочную: на хлеб и воду и на от Чапаева (недостоин!) и джема вечное отлучение.
И какого хрена им здесь ошиваться, от своих что ли шхериться? Был бы хоть самолёт — охранять. И местная баба — в подмогу. Но нет самолёта, не прилетел, не послали. Значит, и бабы не будет. Зато их сюда не на три буквы, больше гораздо, послали, могли бы и дальше, так что на всё происходящее в этом странном мире подлунном спасибо скажи. Знал бы только, кому спасибо сказать, за ним бы не заржавело. А так… Не в угол же, им самим провонявший, звуки глупые тыкать. За недолгую жизнь и так куда только не тыкал, по пьяни-дури не всегда попадая, но это дело другое. Да и не его это вина и вообще ничья не вина. Как народ рассуждает? Одни говорят: тыкай не тыкай, ни до чего хорошего не дотычешься. Другие, напротив, считают, чем больше тычешь, тем больше шансов, что попадёшь. Дядю бы прямо спросить, до чего ты дотыкался? А? До правды дотыкался? А до любви? Но где теперь дядя? За морем речи гневные сочиняет. Говорят, его за них там уважают. Вот так. Кому движуха, а кому уважуха. Как выпадет. Как повезёт. Только грех ему жалиться. Жив. Чего ещё на войне смеет желать он?
После предутреннего патрулирования в бронике, с автоматом и угрюмым светловолосым пацаном из села под Владимиром, до ада зело оборзевшим, ужасно после него присмиревшим, едва хлебнув остывшего чая, забился в свой угол и через минуту, такое редко случалось, его сонный мечтательный дух от мартовской хляби этой раскисшей отлетел, в самом чёрном видении не думая возвращаться. Дух отлетел. Его плоть — свято место пустым не бывает — устало возжаждала, и ей, незаслуженно забытой, неожиданно обломилось. Видно, та кралась за ним по пятам, ещё на предрассветном воздухе за кончик автомата призрачно уцепилась. Так и проникла в лежбище, в каком-то очень затейливом смысле, тайное тайных, святое святых. Была настойчива, но невидима и тиха. Слишком много здесь было долгое время войною безумною не убиенных. А ей ужасно надоело в прятки-блядки играть. Миновав спящих и дремлющих, невидимо в угол за ним проскользнула, к щеке небритой прижалась, от щетины — слишком долго желала его — не отшатнулась. Всё знала о нём: как-никак старше на смерть, какая разница, что младше годами. Ему бы, конечно, перед первой брачной ночью помыться, однако, война, передвижными крематориями запаслись, о бане слегка подзабыли. Людовик какой-то там о себе говорил, что два раза в жизни помылся: сразу после рождения и перед свадьбой. Но то ведь Людовик, король не наш, а французский. Да разве в первую брачную ночь о подобном думать пристало? В первую брачную ночь не пристало думать вообще ни о чём. Вот она и не думала. Губами по губам его заскользила, рты приоткрылись не для слов, разумеется, и даже не для утоленья печалей — для желания утоления. Губы слились, оба вздрогнули, и понесло, поволокло, полетело. Оторванные руки-ноги, головы на места воротились. Всё как положено, сперва вода мёртвая, затем и живая — атас, все назад: ни ада нет, ни войны. А есть тел одно в другое проникновение, слияние плоти, войной надвое расчленённой. Её рука скользнула по шее, по груди, долго уговаривать его голодную плоть не пришлось, и, вот, они в светлом пространстве, под ними голубоватое и над ними, и справа, и слева, они в нём слились и дрожат не от холода; в этом мире, на их счастье случившемся, тепло и сладостно, как бывает только тогда, когда желания совпадают удивительно точно, на обстоятельства не слишком взирая.
Это они на обстоятельства не взирают. Те на них — ещё как. «Ты чё, заболел?» — это ему, мечущемуся во сне. От окрика вздрагивая, она ищет куда сбежать, куда дезертировать. Мышкой мечется по нему. Юрк под мышки, в мокрую теплоту. Юрк между ног — влажно и жарко. Некуда бежать. Негде остаться. Незаметно бы выбраться — святым на разговение не достаться. Куда ей теперь, не венчаной однолюбке? Мыкать горе вдовье своё, остаток жизни о суженом-неразбуженном горевать.
Конечно, им везло не всегда. В эту благодать не сразу попали. До этого много всякого было. Их собрали с бору по сосенке после разгрома колонны и отправили в тихое место — охранять, потиху в себя приходить. Гнали от границы: быстрее, быстрей, хотели напугать количеством, мощью, быстротой огорошить, ошеломить. Вражины, может, и забоялись, но стали стрелять, не попасть было трудно: колонна сбилась, промежутка между техникой не было никакого. Колонна двигалась черепашьи, тряся всем, чем можно трясти, как голый пьяный мудями. Попали в первых — остановились. И — понеслось. В оба уха, чтобы не вылетало, твердили: два-три дня, триколор поднимем, на местном рейхстаге распишемся, и баста: мёд-пиво пить, варениками с мясом и вишнями заедать.
Ад получился непродолжительный, но ужасный. Выживших было немного. Тех, кого совсем не зацепило, долго считать не пришлось. Может, кто-то считавший и прослезился. Но им об этом не доложили. До поры до времени ад не мучил, не снился, вспоминаясь какой-то дикой вспышкой грохота, света и дыма, горячего воздуха, гари и пыли. Но подозревал, что это пока. Придёт время, всё возвратится, каждый миг развалится на куски, превращаясь в непроходимую вечность. Короткие мгновения станут длинными днями.
Но это лишь предстояло, и до предстоящего надо было дожить. Чего даже в этой не по заслугам свалившейся благодати никто им не гарантировал, потому что не гарантировал никто ничего некому. Да и какие гарантии, когда погибали и полковники, и генералы. Что же это война за такая? Не знает никто ничего. Сегодня направо, завтра налево, послезавтра танцуем на месте, пока всех до последнего не перебьют. Или таков ума великого, провидящего вперёд на века, замысел грандиозный? Никак не иначе. Потому что иначе никак. Каком вверх, каком вниз, и победа будет за нами. Это из афоризмов мудрого прапорщика Петровых, который из той же колонны, из ада того же, только знакомы тогда они не были.
В аду как? Огонь. Крючья. Смола. Вот и корчатся, руки-ноги сами собой дёргаются, выламываются из тела, от душ отделяемые, раскалённым железом дотла выжигаемые, в воздух, бесстыдно штаны теряя, без сожаления покидая грешную землю, взлетают. Пляска смерти. Под музыку. Театр пантомимы. Летят себе птицами-тройками во все стороны руки, ноги и головы, в полёте зрителей отсутствующих — все здесь участники — лёгкой неестественностью движений яростно искушая. И нет в этом полёте ни чинов, ни табели о рангах: рука полковника как нога рядового и даже, трудно представить, одного цвета, одного полёта мозги. Хотя думалось и казалось. И нет в аду ни вопросов, ни мыслей: кто, зачем, почему? Не для мыслей-вопросов ад уготовлен, но для страданий, голов и конечностей от тел отрывания. Не слышат грохота здесь: все оглохли. Огня не видят: ослепли. Только вонь плоти горящей, это, конечно. Ныне, присно и во веки веков выжившим будет смердеть.
Тех, прежних знакомцев, кого лечить увезли, кого в крематорий передвижной запихнули, он тоже запомнил не очень. Одно рябое лицо к привычке другого хрустеть пальцами прилепилось, всё смешалось, перепуталось, переплелось, иногда возникало, но не мучительно, тем более что не запомнил кого было приказано сжечь, а кого врачевать, возвращать в строй — за родину воевать. Такая выпала, войнолюбивая, он не выбирал. А был бы не отца сыном, а дяди, иначе бы всё повернулось: в того сына отцовского метил бы, убить норовя, мол, кто к нам с мечом, тот — от меча. Эти мысли никогда целиком в голову не приходили, обычно метались клочьями, словно дым над пожарищем. Потому, может, голова на плечах как-то держалась, а не, взорвавшись, взлетела, кровью тело безголовое поливая, облепляя мозгами. Свободная от мозгов, мыслей и ответственностью перед великим народом, голова бы воздушным шариком воспарила — женщина плачет, голова улетела, цвета она непонятного, и бедной совершенно не ясно, что с оставшимся делать, на какие цели употребить.
Поначалу прапор по очереди употребил их лежбище подметать, но метла исчезла, видно, ведьма на ней улетела, и издевательство над мужским достоинством само собой прекратилось. Поначалу и бриться их заставлял. Прекратилось и это. Головы стригли, а бороды отрастали. Такая была у них мода. При этом вопросы о смысле бытия здесь и сейчас не исчезли, разве что несуществующей метлой под несуществующий ковёр с реальными волосами, разноцветно состриженными с голов, заметались.
На первый, ставший неизменным вопрос, который себе в углу задавал, что они делают здесь, отвечалось одинаково неизменно: хрен его знает, после чего уточнялось: себя от себя охраняем. Если бы от чужих, более-менее знали, как это делать, для того целый день по улицам по двое они и ходили. Но никому нужны они не были. Их не звали, но и не гнали. Только двенадцать тоскующих мужиков, святого прапора не считая, почти незнакомых, грязных, без женского взгляда, об остальном не говоря, это опасно. Если бы дело какое, тогда ничего: общая цель. А так — Господи, в венчике из роз или без, пронеси, как бы чего не случилось. У каждого своё. У него почти всегда дядя.
Хорошо, что дядя далеко: не убьют.
Плохо, что дядя не здесь: не увидит и не напишет.
Напишут много. Большинство плохо. Ничего не поделаешь, чтобы написать хорошо, зазор во времени необходим, и чтобы до того было написано плохо. Чтобы переписать хорошо. Так что, кто пишет плохо сейчас, работает на завтра, если оно, конечно, наступит, и только это уже хорошо.
Пример? Лёв, как звали домашние, Николаевич. Шолохов — пример, конечно, обратный. Только, не Шолохов, а кто, неизвестно, и со Львом несравнимо.
Кто это так рассуждает? Из своего угла себе в угол вопрос адресует? Вроде бы сам. Но похоже на дядю. Вот бы сейчас позвонить. Только за океаном неурочное время. Спит дядя. Рядом тётя посапывает. К тому же, об этом забыл, нет у него телефона, нет связи ни с дядей, ни с тётей, ни с домом, ни с прошлым, ни с будущим. Ни с чем связи нет. Порвалась. Как об этом уже было сказано.
Из угла в тот же угол вопрос: а будет?
Ответ из угла в тот же угол: не будет.
От нечего делать сюжет стал прокручивать. В его свободных мозгах всегда что-нибудь подобное само собой заводилось, как тараканы на кухне. Есть кухня — будут и тараканы. Есть мозги — что-нибудь залетит.
Залетело такое. Мама с папой разбежаться решили. Близнецов между собой разделили. Старший (на полчаса) с мамой остался. Младший (на полчаса) с папой уехал. Подросли, в армию загремели. Загремели — война. Вот, брат, и встретились. Дальше надо было решить — кто кого порешит, но подняли жрать, это дело святое, близнецы с ним бы наверняка согласились, расходясь в решении друг друга убить. Нельзя ли без этакого, греческого что ли, трагизма. За жрачкой втроём порешили: друг друга не убивать, в случае чего, если так повернётся, ранением обойтись, по-любому при первой возможности близнецов дяде представить и посоветоваться, желательно лично, насчёт поездки в ООН ни он, ни близнецы, которые, оказались не так уж две капли, во мнениях не разошлись.
После жрачки надо было идти. Вышли, оглянулись и двинули. Недалеко от продуктового, очищенного до сверкания полок, этюд работы неизвестного снайпера: пёс, задними лапами упиравшийся, остальным, натягивая поводок, распластался, тянет хозяина, лицом в землю свалившегося, тянет-потянет, вытянуть по причине смерти обоих не может. То ли ещё живую кошку заметил, то ли спешил любимое местечко описать. Издали кажется: тени. Забавлялся вражий псу и хозяину снайпер, руку набивал — получилось. Если бы картины снайперской работы торговались на аукционах, этот бы куш немалый сорвал. Неплохая работа. Только некому заценить. Может, и позвал автор кого, командира, коллегу, кто под руку удачную подвернулся, дал бинокль глянуть: ну как?
— Ну, пацан, ты даёшь! По-взрослому!
— Да, брат, ты мастер!
— Ну, Репин!
— Пикассо!
— Глазунов!
— Нет, Глазунов бы кровищи размазал, а тут ни пятнышка. Подлинность. Реализм.
Городок не очень разрушен. Лишь несколько домов пустостенные: только каркас. В основном задело слегка: где балкон отрезало, где выбило рамы, где пару квартир покромсало. В одной квартире на втором этаже среди пустоты зависла кровать. Так и висит себе, ждёт, что сорвут покрывало, взобьют белую пену и понесутся голозадо у всех на виду — на чужой кайф глядеть невозможно. Хотя, говорят, бывают любители. Так сказать, театралы: верю-не-верю хреновые.
Но это ничего. По сравнению с тем, что могло бы случиться, слава Богу, переживём, отремонтируем, если сумеем дожить, вопрос только, когда это будет. И будет ли вообще. А городок этот славный: садики, палисадники, летом наверняка сплошной садок вишневый коло хаты, дачная медово-пчелиная звенящая благодать. Но это летом, до которого надо дожить, пережив мартовскую весеннюю грязь, холод и пустоту, в которой слишком громко сердце стучит, жуткие беды предчувствуя.
Всё время сознание мутноватое. Как после водки несвежей. Дядино определение, с которым он не согласен. Во время патрулирования думается плохо, и хорошо, что это так. Мерзко, холодно, мокро, особенно ночью. И всегда на прицеле. Хорошо бы знать: за что, у кого? Хоть ночь украинская невероятно тиха, но прав прапорщик Петровых, в тишине враги затаились, на мушку взяли, в каждом кусте попрятались, на каждой крыше сидят, в каждом окне. Гипербола — стилистическая фигура явного преувеличения, используемая прапорщиками и другими начальствующими лицами для поднятия боевого духа, промывки грязных мозгов и устрашения рядового состава. Так в уставе и написал бы, если бы поручили.
Хотелось рядом с собой в углу какое-нибудь живое существо поселить, да так, чтобы было только его, чтобы к тому его случайные соавторы по войне никакого отношения не имели. Никаких Платонов, никаких Каратаевых. Никаких прибауток липких и скользких. Да и Пьера не надо. Слишком толстый, требует слишком много пространства. Угол его рассчитан как раз на него. Ну, и существо, если прибьётся. Не прибивалось. Все ушли. Все. Первой, понятно, писклявая мышка. За ней ленивая кошка. За кошкой собачка. За собачкой? Пусть будет весь зоопарк, весь Ноев ковчег, парами, как детишки детсадовские, взявшиеся за руки, на прогулке в те времена, когда ещё среди бела дня не слишком часто стреляли. Какой жанр способен вместить-отразить исход зоопарка из зоны боёв? Надо у дяди спросить, когда и если свидеться на этом свете случится.
На границе их постоянного пешего мониторинга небольшая церквушка. К ней кружным патрульным путём каждый из двенадцати пару раз в день добирается. Никто не заходит. Дальше не велено. Церквушка заколочена. Колоколенка надвое перерублена. Верхняя часть грудой старинного кирпича у подножия. Креста тоже нет. Наверное, в груде кирпича то, что осталось. Он в этой церквушке вместе с дядей бывал. Точней, дядя водил. Восемнадцатый век, от которого не много осталось: не раз перестраивали, внутри вообще ничего, всё новое, после той войны и закрытий-открытий написанное: алтарь, иконы, даже витраж небольшой сочинили. Входя-выходя, подходя к иконам, дядя крестился, косился на него, но молчал: твоё дело, здесь хата моя, понятное дело, что с краю. Такое не свойственное дяде смирение. И это тоже ценил: дойдёшь доселе и не перейдёшь. Вглубь от дороги, за церковью домик священника, постоянно пустующий: изредка наезжал. За домиком кладбище. За кладбищем роща. За рощей большая дорога на северо-запад. Они как раз оттуда и шли, пока в ад не упёрлись. А потом их, огрызки, ошмётки, объедки, сюда — ворон от мрачного карканья охранять, посмертных орденов и передвижного крематория дожидаться: в парадной форме с орденом на груди в небо чёрным дымом взойти, над чужбиной, где было ему хорошо, а теперь стало плохо, взойти дымом, мать-родину вспоминая-и-поминая, взойти и развеяться.
А пока от нечего делать стал придумывать судьбы товарищам по берлоге, на первом же надоело. Какие судьбы у сопляков, выросших в сёлах и городишках? Главное после первой любви торопливой где-нибудь под забором мечтание: вырваться, сбежать, из родного пьяного гнезда дезертировать. Вот и вырвались. Вот и свезло. Не охота ему этим парням-бедолагам судьбы придумывать. На его глазах вот-вот они кончатся. То ли таланта недостаёт, то ли те доли лучшей и подлинней не достойны, то ли ещё что, только не охота даже себе судьбу сочинять. Значит? Значит, ставит он точку. Торопится? Может быть, многоточие? Этот знак препинания очень не любит. Не применяет. Тем более здесь, в этом лежбище, медвежьей берлоге, в которой, проявляя неустанную заботу о вверенном ему воинском коллективе, прапорщик Петровых долго соображал, как баню организовать, ну, пусть не баню, но основательную всего тела помывку, от них уже сильно воняет. Соображал-соображал, но не сообразил. Не успел.
Вышагивая свой крестный путь, от маршрута не отклоняясь, шаг влево, шаг вправо считается дезертирством, сгибаясь под ношей ада, которую теперь вечно нести, они топали в ногу с рядом идущим, кружили-кружили, на Голгофу не поднимаясь: не было ни креста, ни Голгофы, место им случилось равнинное, плоское, ни гор, ни малых пригорков. Может, холм какой на горизонте, да он не про них: далёкая, недоступная воображению заграница.
У каждого из двенадцати, не считая прапорщика Петровых, было прошлое, пусть не слишком долгое и богатое, однако своё, которое на лицах, даже очень дружелюбно открытых, совсем не читалось. Или просто он прочесть не умеет? А может, потому что их прошлое и его не соприкасались? Случайность, нелепость, что их настоящее не только соприкоснулось с его, но и переплелись тесней не бывает, как смерть с жизнью переплетаются на войне.
С самого начала, задолго до ада, все им про клюющего петуха толковали. Это пока, задроты, цветочки, когда жареный петух клюнет, тогда и поймёте. Сведённые начальством и судьбою в команду, на перегоне от ада до благодати где только не насиделись, чего только они не наслушались. Перво-наперво новоявленный прапор стал про жареного петуха заливать. Лучше бы, конечно, про заливного. Тогда подумал, что после ада ни ему, ни другим этот топчущий кур ни по чём.
Наслушались не от прапора, от других о том, как несколько раз не им чета пацаны шли вражьего главного убивать, шли даже слишком уверенно, слишком спокойно, дырочки для больших орденов прокололи, широко карманы раскрыли, губу, как положено отважным бойцам, до муссолиневой наглости закатали. И? Напрасно старушка ждёт сына домой. Вражий голос скажет: так им и надо. Не вражий репу почешет и промолчит. Старушке — орден и гробовые. Таких денег сроду-веку она не видала. В этой стране выгодно сыновей хоронить и очень почётно: всё начальство местное съехалось, лучший в районе батюшка отпевал, главный районный начальник речь сказал на поминках, до дна, не поморщившись, выпил стаканчик и грибком закусил. Сама грибы собирала-солила, сыну, думала, на закуску. А ей вместе с гробом выдали орден. Куда она его? На телогрейку нацепит или корове на хвост?
В соседнем углу, четыре метра за левым плечом дискуссия, диспут, симпозиум: если тактическим зарядом ядерным по вражинам наши шарахнут, до нас не долетит, радиация нас не заденет? А то защиты у нас ни хрена — сразу подохнем или помучаемся? Хочется ответить: помучаемся, конечно, не бздите, но надо молчать. Прапор молчит, хотя всё слышит прекрасно, значит, и ему поперёк батьки не резон нарываться. Диспут жаркий и, не дай Бог, хрен его знает, может, и актуальный. Как бы по морде аргументы не прилетели. Ему хочется дискутирующих придушить, но только отворачивается к стене, представляя — зацепили засранцы — как это бухает, как гриб поднимается, втягивая в себя их вонючее логово вместе с их постоянным маршрутом по городу, который весь полностью в шляпке гриба помещается, и там всё по-старому, как заведено прапором, их лежбище, одна и та же осточертевшая жрачка, маршрут, церквушка с разбитою колоколенкой, с ооновским дядей, одним словом, всё там в шляпке, как прежде: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Всё правда. Всё так. Только нет воды, нет здесь канала. Вода недалеко, за околицей, неторопливая, в жаркий летний день истинное спасение. Только девки на берегу все толстые, ни одной нормальной фигуры, а в лица лучше вовсе не вглядываться. Он ещё не герой вписок, но что к чему уже понимает. И дядя, с которым они вдвоём на пляже кайфуют, глядя на него, понимает, что он понимает. Дядя понимает, однако молчит. И он понимает, что дядя не просто молчит, но молчит, понимая. Ему это приятно вдвойне. И то, что оба они в этом равны, понимая, и то, что дядя ему в душу со словами не лезет. Слова ведь дело такое, всё могут обгадить, так что вообще лучше молчать. И за то благодарен, что дядя на него худюще голого — всё во все стороны выпирает: ключицы, бёдра, то самое — как-то вовсе не смотрит. Если скользнёт взглядом, то, словно обжёгшись, тотчас в сторону, мимо. Зато он на дядю смотрит сколько угодно. Впрямь есть на что поглядеть. В отличие от отца, дядя высок, строен, плечист, мускулист. Не дядя — картинка. Фото в «Плейбое». Где надо выпирает мощно и убедительно. Ему бы вырасти таким же, как дядя. Загадал — и случилось. Теперь, если бы вышел он из угла, содрал шкуру змеиную, помылся бы, как положено, вышел бы в плавках на пляж — вылитый дядя тогдашний. Да и девицы на пляже не те деревенские, коровы коровами вида шлюховатого-простоватого, а парижанки, и река — не эта, а Сена, Луара, а лучше — море, Средиземное, бирюзовое, голубое, и дядя в соседнем номере, а он с ней в своём, после пляжа — прекрасно, потом променад: он, дядя, дядина, пусть будет не тётя, лучше подруга, и, конечно, та, с которой в номере после пляжа, ужин, свечи, креветки, устрицы, шампанское, жри хамон, лопай пармезан — не хочу, возвращаемся, расходимся и по новой. Дядя теперь — ого-го. И он при дяде — секретарь, ответственный, конечно, или пресс-атташе, это лучше. Жизнь прекрасная. Бесконечная, как ковровая дорожка, Канны, Венеция, каналы, не те жуткие, холодные, склизкие, а тёплые, весёлые, карнавал: маски, музыка и гондолы.
«Сколько можно спать, боец, подъём, твою мать», — вместо дяди прапор его поднимает, труба зовёт в поход по мёртвому городу, армией, к которой принадлежит он со всеми потрохами своими, конвенциональным оружием убиенному. Так что идите вы, однополчане, на хрен, какого тактическим ядерным из угла своего мир пугаете. Лучше носки постирайте, чтобы от вас меньше воняло. Это всё про себя. А прапору Петровых: «Угу, встаю, не трясите».
По ночам все они, прапорщика Петровых не исключая, беседуют со своим вторым «я» — кто громко, кто тихо, кто осторожно, на личности не переходя, кто более чем переходя — до ора предмордобойного. Возвращаясь из ночного обхода вверенной их попечению территории, поначалу прислушивался, удивляясь, что второе «я» во сне есть у всех, даже у тех, у кого днём нет и первого, прислушивался, пока не дошло, что неприлично вроде бы как в замочную скважину за ними подглядывать. Но воленс-ноленс даже не хочешь, но, бодрствуя, непременно услышишь. Такие откровения бывают, дивишься, хоть падай, хоть стой, такого наслушаешься, что целый день прокручиваешь в голове, пытаясь понять, как такое грандиозное в такой крошечной голове умещается. Но если он слышит, значит, что и его? Как второе «я» отключить, как истребить, чтобы не подглядывали сквозь замочную скважину в душу? Ночные беседы со вторым «я» разнообразные очень. Одно дело обсуждение, с какой закрутить, а с какой прекратить, другое — как и чего подсыпать прапору в чай, чтобы меньше командовал, третье — рассуждения о глупости не кого-нибудь, а Верховного: военную тайну второму «я» первое выдаёт. Рассказы об аде, о передвижных крематориях, оторванных руках-ногах-головах — тема ночных разговоров обычная, фон ночи бессонной, которая всё чаще случается. Да и как не случаться, если дёргают по ночам шляться по улицам холодным, сырым, трупы никто не убрал, запашок никто не уничтожил. «Грехи наши тяжкие», — кто-то второму «я» на ухо тихо сопит. «Твою мать, двигай отсюда», — другой второму «я» матом благим объявляет. «Чтоб ты сдох», — третий своему визави голосом негромким, ласковым даже, желает. Зато четвёртому повезло, второе «я» поддакивает, лицемерно, конечно, но лучше, чем нарываться по морде. «Как бы к дяде прорваться?» — это он своему второму «я» вопрос задаёт. И это ещё хорошо, если «я» только второе. А у кого и третье, четвёртое? Тем, пожалуй, к врачу. Или — к священнику, пусть парочку «я» святым словом изгонит. А то размножились, расползлись, жить не дают. Помогите!
Ну да, разбежались, помогут. Однажды такое услышал, что первое второму никак даже в ухо шептать не могло. Может, на такое второе решилось?
— Ты, — говорит первому, — дурак, не понимаешь?
— Чего?
— А того.
— Сам дурак.
— Не понимаешь? Завербовали. Засланный казачок.
— Кого завербовали? Кто казачок?
— Точно дурак. Какого он там ошивался, с вражинами теми дружился? Не понимаешь?
— Ну…
— Вот тебе ну. Завербовали, чтобы всех нас погубил, чтобы против нас всех настроил. А как?
— Ну и?
— Так! Ждал своего часа — дождался. Всех, кто против него, перебил, все боятся слово сказать — язык укоротит, за ним не заржавеет.
— Так это он всё специально подстроил: нас угробить, а страну погубить?
— Дошло наконец-то.
— Так он, получается…
— Вражий шпион.
— Так что же ты молчал? Что теперь делать?
Как всегда, в самом интересном месте голоса замолчали, может, перешли на внутренний диалог. Так что, кто виноват, он узнал, а что делать, как всегда, покрыто туманом — сам разбирайся.
— Выжженная земля.
— Не годится. Никто её не сжигал.
— Вымороженная.
— Не так здесь и холодно.
— Выеденная.
— Пусть будет так. Короедами всякими по подобию нашему.
Это уже он в своём углу со своим вторым «я». Однако, о том же.
У-у-у, у-у-у, — в одну из ночей из пустоты тихой явилось и больше не уходило, душу не отпуская, ближе к полуночи появляясь, к утру исчезая, с каждым днём всё ближе, всё оглушительней, всё глумливей повизгивая. Ветер? Нет, не похоже. То ли волки, то ли красные дьяволята, то ли иное что инфернальное. Включалось, словно сирена, во все щели беззастенчиво проникая. Окружало, сдавливало, из берложно-патрульной повседневности беспощадно, безбожно, шакально, неотвратимо выдавливая в пустоту.
Влияние на мозги камуфляжа миллионами примеров доказано. Блеск пуговиц и сапог блеск мысли в глазах затмевает. Пилотка-бескозырка-шапчонка, сдавливая лоб с чудовищной силой, из черепа мозги выжимает: их излишек солдатской жизни — большая помеха. Так все штатские мыслят. Увы, это правда, с которой военные вовсе не спорят, ибо их интеллект направлен, в первую очередь, на то, чтобы выжить: безопасность, еда, питьё, всё связанное с низом телесным имеет несомненный приоритет над эмоционально-мыслительным верхом, мол, голодное (жаждущее, чувствующее опасность) брюхо к учению (мыслям, эмоциям) глухо. Так, вполне справедливо, может рассуждать человек не военный, к примеру, ооновский дядя, гамлетовским батей постоянно на территорию, к даче его примыкающую, из далей дальних являющийся, но никак не племянник, втиснутый в угол и радующийся, когда им не слишком интересуются, пусть даже пренебрегают.
Смиренно в такт собственным мыслям совершенно безгрешным покачиваясь, словно живой иудей на молитве или великий Лобановский покойный во время игры, он, то радостно, то тягостно вспоминая, сочинял донжуанский список, великому памятнику подражая, езду в остров любви, за глубокой давностью лет позабытую, изображая. Сочинение продвигалось не просто. Один раз — не пидарас, а если с ней вместе, в список включается? Решил составить два списка. Один краткоразовый, до двух-трёх раз, не больше. Другой — многоразовый. Только решил, и снова логическая загвоздка. Раз — это что? Если в одну ночь несколько, это в какой? А если по беспамятству, то ли было, то ли не получилось, уснул, не успев? Мозги с этим списком сломаешь. И ещё вот вопросик: бляди по общему списку или отдельно? А если с пацаном без неё? Пару раз блажили по пьяни, это куда? И так и сяк — ничего сочинить не получалось. Ничего не выходило. Какой-то донжуанский синдром, вроде афганского или стокгольмского, получался. Хорошо бы с дядей поговорить, только нет, неудобно. А то начнёт рассказывать, нет, он не будет. Скорей аккуратненько его засмеёт, давай, мол, малыш, сам разбирайся, пока не поздно, пока не забыл, пока мозги тебе на этой гнусной войне не отстрелили или что-то ещё по этой теме, что куда как существенней. Плюнув, стал в памяти перебирать всех и вся по порядку и тут же запутался, разбираясь, кто раньше, кто позже, а если с двумя, и такое бывало, за раз считать или за два? Так и уснул на чём-то очень приятном, тёплом, поздневесеннем где-то на даче, когда все уже разошлись и уснули, а вот они…
Хронотоп дороги из дому на войну ему обломился хреновый, по большой части тёмный, нетрезвый. Несколько часов дымного перегара вагонного до учебки хрен знает куда и зачем; оттуда через короткое время вроде бы как самолётом в кромешном тумане; потом ночной марш-бросок — ни зги — в ад, где, чадя, кипели мозги; и — лежбище с патрулированием пустоты. Не хронотоп — жуткая хренотень подзаборная. Тюрьмы, сумы наверняка по обочинам. Только темно, вот и не видно.
Дядиными словами, его интонациями убеждает себя пристальней к пацанам приглядеться: в будущем наверняка пригодится, не сделаешь — пожалеешь, всех опишешь, на всё глаз твёрдый положишь, в разнообразные обстоятельства окунёшь, чтобы потом по очереди, смакуя подробности, за милую душу убить. Не цинизм это, племяш, ремесло! После того, как опишешь, после того как убьёшь, прежде маленькие слова станут большими, а большие, соответственно, малыми. Одни надуются, другие сдуются соответственно. Одни будешь пинать, другие, как знамёна, нести. Ты к тому времени непременно изменишься. Другими глазами смотреть будешь на мир, не слишком кое-что желая высматривать. И поймёшь: где чего-то прибавится, соответственно и убавится непременно. Опишешь точными словами — герои получатся звероподобными. И это правильно, хорошо. Достоверно. Читателю понравится. Читатель оценит. Дерзай, племяш, и обрящешь. Что — не сказал. В ночной темноте растворился.
Но приглядываться себя заставить не может: самого слишком много, изо всех щелей выпирает. Не только от них, но и от себя поглубже бы в угол забиться. От пьяной свободы былой — в похмельное заточение вместе с ними, как и он, одуревшими до конца жизни, а может, и после.
Угол — попытка поднырнуть под волну времени, пьяного, обкуренного, сумасшедшего, пусть прокатится над головой, кого унесёт — он не виновен. Он, вообще, не виновен, тем более в том, что родился в такое скверное время в таком Богом оставленном месте.
Угол — спасение от товарищей по оружию, которые солдатами не рождались и рождаться не собирались. Чтобы солдатом родиться — такая игра слов дурная — надо переродиться. Но угол не спасение от всевидящего прапорского ока и — самое страшное — от собственных мыслей, на короткое время схлестнувшихся с книгой, которую, патриотизм в мозгах возбуждая, ему любимый папаша подсунул. То, что описывал, автор знал хорошо. Порой даже слишком. Героев своих уважал, местами любил. Его персонажи жрали, ржали, срали, сношали и убивали. Пятиглаголие. Должное автору надо отдать: наблюдателен. Четыре первых действия его герои совершают строго индивидуально, зато последнее — одинаково кровожадно, стадно без мыслей о том, кого, за что и зачем. Их убивают — убивают они. О чём базар, мужики? Автомат почистили? Наливай. Не забудь закусить. Святое дело — посрать. Бабу — и снова за дело: родину любить и стрелять, чтобы враги не любили — боялись.
О, как они пьют до дна, не зажмурившись, не поморщившись.
О, как славно они пьют из стаканчиков одноразовых и как замечательно из горла!
О, как они упоительно пьют, занюхивая подмышкой.
О, как они пьют, после чего уже не умом понимают!
О, как, выпив, они любят берёзки родные и прочую флору, которую поимённо не помнят.
О, как гордо пьют они, похваляясь, что в плен не берут и в мёртвых рожок разряжают.
О, как пьют они, внебрачные наследники незабвенного несчастного Венички!
О, как, выпивая, уважают друг друга, особый случай — посмертно.
О, как они, выпив, настойчиво дышат в лицо собеседнику перегаром.
О, как, выпив, поют они громко, ещё громче, соловья курского голосистей.
О, как они, выпив, блюют упоительно!
О, что они пьют! Как что? Всё, что угодно.
О, зачем они пьют. Как зачем? Что за вопрос идиотский?
О, не просто так пьют! Пьют, князя Владимира Великого (= ВВ) поминая.
А всё для чего? Пьяным, похмельным легко убивать, спасителем отечества себя ощущая.
Всё мелькало несуразно и хаотично, как только бывает во сне. Это его слегка успокоило, ведь из сна можно вырваться, если в нём слишком скверно, можно проснуться. Так или не так, мысль о сне во сне не додумалась, на него накатило: лица, мелкие подробности бытия, всё то, что было после того, как свалился с обрыва: летел голым у всех на виду, приземлился на пятую точку уже в камуфляже, из которого неуклюже торчали руки-ноги и шея, вертевшаяся во все стороны, на позвонки и всё прочее невзирая. Вертелась-вертелась, внимая, вбирая, и довертелась до ада, который как-то не слишком отчётливо, не слишком убедительно промелькнул, будто был малозначительным событием чьей-то великой истории, записывающейся под чью-то диктовку, да так, что, если случавшееся не вписывалось в концепцию всеобщего благоденствия, то и, нисколько не огорчаясь, не вписывали. Не случилось, чего же писать, это ведь не выдумки, а история. Как с этим не согласиться, хоть во сне, хоть наяву?
Так вот, в этом сне видел он, как наяву разгребали последствия ада и его в стороне не оставили. Велено было доски искать, деревья пилить, горючие материалы подтаскивать, костёр сооружать на неизвестное пока — не подсчитали ещё, всех не собрали — число персон. Одно было ясно: персон было много, ну, не персон, слово выбрали неудачное, однако понятно. В конце концов, есть слова неудобные как для истории, так и для гнусной реальности. Сама собой или чьим произволом дотошным сколотилась группа, бригада, вероятно, из многих одна горючим материалом промышляющая усердно и спешно. Долго ли коротко, совладали, соорудили вавилонскую башню, не до Господа Бога добраться — дым жертвенный до Него донести. Уложили, соорудили, безо всяких ненужных речей подожгли, округу дымом насытили — не продохнуть, через мокрые тряпки дышали, противогазов, как всегда, на всех не хватило, так что трупным дымом на всю оставшуюся жизнь, немало её сократив, надышались.
Славно, весело пламенело, потом пламенные речи, которых не было, в историю записали. Как же в истории без речей? Только речи, понятно, не о трупах и прочем ненужном, а о пламенеющих сердцах не сгорающих, словно сейфы, в которых карты победы хранились и речи победителей супостатов, одним словом, слава героям, слава великой победе!
Вначале был шорох, затем в сипящей тишине тихий голос явился, потом, свет свечи заслоняя, бледная тень промелькнула, перед глазами неспешно кружилась-кружилась и, растворившись, вновь собралась и на нём — глаза в глаза — очутилась, легла, присела, снова легла, усмехнулась, голову запрокинула, волосы с глаз убирая, качнувшись, прильнула: губы к губам, ну, а дальше, всё убыстряясь, оживая, мягко твердея, стала проникать, приникая, незаметно как-то его раздевая, камуфляж с плоти кусками сдирая, добираясь уверенно и непреклонно, чтобы вместе, в единое обратясь, взлететь над горящим адом и остужающей благодатью, над родительским домом и дядиной дачей, и, над оставшимися на земле бесстыдно глумясь, такое выделывать, что никаким акробатам и сексуальным затейникам на земле и в голову не придёт: ничто со свободой небесною не сравнится, да и кто ей сподобился — единицы, так что никто сравнить не способен.
Кто любовь с тенью познал? Ау! Отзовитесь! Молчат. Тихо. И скоро засочится свет предрассветный. Вечером смеркнется. А солнца не будет. И луна не взойдёт. Что остаётся? Тень ждать в полумраке, свободу от жизни несущую. А что будет, когда солнце всё же взойдёт, сквозь тучи пробьётся? Все ослепнут и не прозреют.
До армии он искал свободу от дома, от родных, от обстоятельств, принуждающих действовать так и никак не иначе, от обязательств, которые помимо воли веком-волкодавом ему в плечи вцепились, раздирая плоть, до души добирались. Здесь в любую минуту он мог убежать — на дядину дачу, к врагам, которые вовсе ему не враги, но почему-то каждый раз собаче покорно возвращался в берлогу, в вонь, в разговоры тупые о гордом величии и о бабах, горячих, хмельных, бело-розовых, как зефир, который, если свежий, так маняще здорово пахнет и тает во рту, оставляя долгое, почти бесконечное, как красивая пылкая любовь, послевкусие.
В последнее время, чем дальше, тем больше, по нарастающей, до невозможности, дико мучительно, по лестнице поднимаясь, к берложной двери с огромным бронзовым номером шесть подходя, издали улавливая пронзающе жуткую вонь их островного коллективного бытия, пытаясь преодолеть отчаяние, ему горло душившее, давно позабыв, что призван делить всех на врагов и своих, те далеко, эти вот они, близко, рядом, за дверью, он, зубы сцепив и дрожа, в сторону отводил автомат, чтобы не вскинуть и до пустоты в рожке и в собственном сердце прошивать их всех справа налево и слева направо, включая прапорщика Петровых, который любил повторять, что за них всех отвечает, не уточняя, перед кем он ответственен, как-то само собой разумелось, что перед командованием, следовательно, перед Богом, в честь чего под нательной рубашкой носил крестик, серебряный, прадедов, помимо истории временем и помимо крови жизнью нелёгкою освящённый.
Всех вернувшихся с патрулирования прапор Петровых встречал одним и тем же идиотским призывом: «Ноги вытирайте, не наследите!» Вытирать ноги возвратившимся было не о что и наследить они никак не могли: пол в берлоге был покрыт тем же слоем грязи, что и на лестничной клетке, а тот — как на улице. Ох, ты, прапор, ох ты, глупость вечная, неубиенная! Прапор не позволял даже на краткий срок свободным от патрулирования покидать то, что он быть назначил казармой. В другие помещения дома вход был заказан. Сортир определился на крыше, куда поднимались по железной лестнице через люк. В этом странном лежбище, переполненном до краёв нестиранным камуфляжем, хорошо было бы для смирения нравов и какого-никакого уюта завести не тварь дрожащую, а животину, кошку, собаку, хоть бы кого. Но все животины в округе давно стали трупами, а уцелевшие крысы для смирения нравов не очень-то подходили. В этом, однако, многомудрый прапор был совершенно не прав: крысы — животные умные, своих, в отличие от людей, не грызут зубами мелкими, острыми, в случае чего до бешенства нетерпеливыми.
Патрулирование, согласно прапорщикову приказу (не живёт селенье без праведника, армия не живёт без приказа), было идиотизмом чистой воды, в своём роде удивительнейшим бриллиантом. Чем идиотичней приказ, тем строже его исполнение. Двенадцать молодых воинов, салаг, салабонов это постичь не могли. Лишь прапорщик Петровых в это таинство был посвящён, и со жреческой ревностью ему скрупулёзно служил, не смея думать: то ли вверенное ему подразделение мёртвые трупы от живой пустоты охраняло, то ли её — от трупов, с каждым днём всё более протухающих. Попались бы отвязные — несдобровать бы прапору, ох, несдобровать. Но разве двенадцать таких наберётся? Среди этих, может, один, тот в углу, и был себе на уме, слишком городской, безмерно столичный, но остальные нормальные: ни сучка, ни задоринки, как положено, стружку снимай, рубанком по потным спинам долг служения исполняй. Слова не скажут. И про себя не подумают. Приказ не обсуждается — приказ исполняется. Шагом марш! В баню — из бани, на построение — разойдись, становись — подтянись, шире шаг — перекур, вперёд — ура, примкнуть штыки — победа будет за нами. Нечему удивляться. Их с розового детства невыносимо счастливого заразили комплексом надо всем и вся превосходства, неудержимой духовности, из берегов выходящей, затопляющей сушу, в болото её превращая. Одним словом, разговорчики в строю — выйти из строя.
Он старался из строя не выходить. Повод не подавать. Но его везде, кроме ада — было не до того — вычисляли. На удивление себе оказался не слишком приживчив. И раньше случалось ночевать в одной комнате не одному. Но тогда была комната, а не лежбище, не берлога, не казарма и не бедлам под чутким прапорщиковым руководством. К тому же раньше в таких случаях компанию ему составляла вчерашняя любовь, с которой просыпаться было хотя порой в тягость, но ничего не поделаешь, за ночные удовольствия утром надо платить. Другой вариант — ночь после не трезвого пиршества духа и плоти, что тоже понятно. А тут ни за что ни про что, ни любви, ни пиршества, ни духа, ни плоти — чужие мужики из плоти вонючей, из духа сермяжно сомнительного, это ваще.
Ни на минуту одному не остаться — за что? Ни с дядей наедине поговорить, ни в трусах почесать. Тюрьма! И это им, победителям! Что же говорить о побеждённых? Хотя кто победил, кого победили — большой вопрос, вовсе не ясный. Ни радио, ни телика, ни интернета, прапор что-то знает, но партизанит — молчит, что склоняет мысль к неприятной угрюмости, а уши — прислушиваться к шепоткам по углам.
Только в одном углу он один. В правом четверо, друг к другу обращающихся ласково и по-свойски: земеля; четверо в левом, те старики, полгода в армии, не чета салабонам; в четвёртом углу, у подножья серванта сам прапорщик со своим, так сказать, денщиком-ординарцем, Петькой при Чапае без Анки; и напротив него двое диагональных, бесконечные разговоры ведущих, на него поглядывающих искоса, не сказать, дружелюбно. Впрочем, и другие особого дружества к нему не выказывают. Ну, и ладно, ему с ними детей не крестить и свиней не пасти, хотя немного обидно, ведь они как бы великий народ покоритель и победитель, а он, получается, не слишком народу и нужен, и сам не народ, ergo не покоритель, не победитель. А почему? А потому, наверное, что побеждать, покорять ему лень, не охота. Как сказал бы прапор, у тебя, брат, не стоит на победу. Ну, и что, ответил бы, зато стоит на другое. На что же? Вот этим вопросиком прапор прямо под дых, или, как он бы сказал, серпом да по яйцам. Что остаётся? Согнуться. Запоздало прикрыться. И мучиться, мучиться, что страшно далеки дядя и он, в отличие от отца, брата дяди, от родного народа, который за своих их не держит и думает, что Конституция — это баба, жена Константина, всей земли их великой царя, всего народа православного и не очень.
Время от времени из противоположного ему по диагонали угла их пещеры, которую, плюнув, на малое время волны истории в покое оставили, словно дымы над пожарищами, непременные в военное время, вились об одном и том же истории малые, без которых великая история, подлинно настоящая, не полна, не нужна, невозможна. Вьющий историю был очевидцем, слушающий к её концу едва лишь поспел, так что правда жизни торжествовала, кроваво свирепствуя. Сюжет, понятно, был вечным. Подробности — по месту и времени. Интонация — романтическая, доля пафоса — как соль-перец, по вкусу. Будете, конечно, смеяться, его звали Рома, Роман, её — нечего ржать — звали Юлией. Он — воин. Она — поселянка. Интимные подробности — в соответствии с сексуальным опытом повествующего и ожиданиями внимающего. Вот и всё, собственно. Ах, ещё и слова. Так вот, доносились, над пожарищем дымами носились.
Храбрый черноголовый вражеский воин после тяжёлого ранения очнулся, оглянулся, попросил робким голосом пить и увидел склонённую русую голову поселянки со скромными серёжками золотыми с небольшими бриллиантами в розовых нежных ушах. Утолил первую жажду, очухался и воспылал. Она первую жажду раненого воина утолила, постепенно очухала его заботой безмерной и скромной девичьей лаской. Так и двигался сюжет не по дням — по часам. Так что к концу первого дня после того, как очухался, пройдя все необходимые фазы: случайные прикосновения, робкие неслучайные прикосновения, не робкие не случайные прикосновения, просто прикосновения, откровенные прикосновения к полуобнажённой девичьей плоти, совершенно определённые совершенно откровенные прикосновения к совершенно обнажённой девичьей плоти в самых откровенных местах самыми откровенными местами готовой к подвигам воинской плоти, после всех этих фаз, когда он усталый от ранения оправлялся, а она, нежно обнажённо склонившись, его от ранения оправляла, в тот наинежнейший момент, когда на седьмое небо Роман и Юлия возвратно-поступательно вознеслись, на ненумерованном небе раздался гул самолётов вражеской для Юлии армии и пронзительно зазвучала бомба, сброшенная небесными товарищами по оружию храброго воина, от ранения оправившегося ещё не совсем. На седьмом небе, к сожалению, долго пребывать невозможно. Раз, два и обратно. Так что нет повести печальнее на свете — так это в переводе Бориса Леонидовича, а кого же ещё, на дачу которого, в музей превращённую, они с дядей ездили, и дядя говорил-говорил, рассказывал-да-рассказывал, как будто он сам жил в этом доме и сам Шекспира переводил, не говоря уже о бесконечных стихах, которые на память он декламировал, юные мозги, надо признать, несколько оглушая. Было тогда зимнее снежное утро, потом прекрасный снежный солнечный день и чудно блистающий снежный вечер, в звёздную ночь переходящий. И сейчас тоже почти что зима, хоть и март. Но дом совершенно другой. Вместо белоснежности бесконечной — жуткая непролазная грязь. И дядя, как и Шекспир, далеки бесконечно, за непроходимой дальностью непредставимы и невозможны. Зато дымок из угла. И некая робкая диагональная связь между углами, как всё в этом мире и на этой войне, непонятная, неестественная, совсем, совершенно, ни под каким углом зрения невозможная.
В другой раз — другой вечный сюжет, а может, не вечный — увечный, но всё равно по диагонали, из противоположного угла дымными клочками на гари настоянный. Чей голос — не сразу понятно. Однако дым постепенно рассеялся, кое-что прояснилось, но не до конца, иначе не интересно. А это самое главное. Многие так полагают, однако не все.
Кончились мытарства, переезды, шум беспрерывный, многое тут наработаешь: кредиторы, долги, белоголовый и двухметровый, в деревню бы, сердце просит покоя. Просило — и получило. Наконец-то. Дети подросли, шуметь перестали, выбились в люди, кто куда, дай Бог им счастья, здоровья, удачи. Жена наконец-то, подустав, успокоилась, вышла замуж, совсем неплохо, однако. Издают. Чего ещё надо ему на гранитном постаменте, не высоком, но представительном и изящном. Чего ему ещё, бюсту из бронзы, как положено, по Кипренскому, с огромными бакенбардами, никто, поглядев, не скажет, что обезьяна, маломерный шкет африканский, а если посмеет, то на десяти шагах и немедленно. Сколько раз стрелялся, репутацию завоёвывал, теперь она работает на него. Пусть только посмеют его почти двухсотлетний покой потревожить.
И вот тебе на. Последнее время вокруг сумасшествие. Рёв, крики, бомбы. С ума посходили? Сколько лет тихо, разве что митинги эти дурацкие, кому это надо, но митинги, по сравнению с бомбами, ерунда. Конечно, комета была. Но та беда тихая, как оказалось, совсем не опасная. По году появления ресторатору и заказывали: вина кометы давай, совсем не дешёвого. Ладно. Лишь бы издатели не перевелись, ещё лучше, чтоб умножались. С ума посходили — вина не пьют, гадость какую-то, за версту смердит, такое зачем промышляют?
И вот тебе на. Бомбы, стрельбы, дуэли, дым, гарь, сплошное смердение. Снова злодей самовластительный? Снова семейная вражда, спор славян между собою? Чёрт их всех разберёт. То на одном языке говорили, то как-то иначе. Не могут сесть, по-человечески поговорить? С вином у него с недругами иногда получалось. Но с этой мерзостью какой разговор?
И вот тебе на. Стоял-стоял себе не слишком высоко и не низко, никому не мешая. Во сне, надо должное отдать, аккуратно с пьедестала спустили, на сырую землю поставили, однако, прохладно, одет не по сезону, к тому же не мальчик, могли бы с большим уважением к бессмертным бакенбардам по мотивам Кипренского отнестись. Что теперь? Снова, вновь и опять свою бездомность лелеять? Шум, гам, квартиру искать, жена, дети, кредиторы, долги. Может, плюнуть, к цыганам уйти, под именем Алеко скитаться: Земфира, кибитка, кони, поле, свобода. К чёрту бомбы, пьедестал, Кипренского и бакенбарды!
Повсюду страсти роковые! И от судеб защиты нет!
Прислушался внимательней: это из угла диагонального или из собственного его? Так и не понял. Уже почти отошёл, успокоился, как снова: «Какого чёрта вы свой ад рабства, страха, покорности по миру разносите? Сидите дома и голову смолой поливайте». От кого это? Откуда?
Оттуда. От духа времени, словами заговорившего.
Корчась, время дождевым червём омерзительно извивалось, дёргалось, бледно-розово склизко дрожало, обветшало, умирающе сосульно свисало, скисшее, пустоту отравляло.
За что, Господи, во время такое жить определил?
Дым косматился, на клочки разлагался, каждый был куском его жизни, сгоревшей в аду, в благодати вонючей в дым обратившейся.
Из рассказов дяди он помнил: место, в котором им выпало лежбище, недалеко от великой реки, вдоль которой текла большая дорога, ведущая в Город, сравнимых с которым в мире немного. А для них, дяди, их рода, народа всего этот Город был главным, от него и пошли все города, большие, малые, красивые и никакие. Местечко с лежбищем слегка в стороне, так что враг, рвущийся в Город, его обтекал, не замечая. В самом деле, если перед тобой мешки с золотыми, станешь ты на какой-то медяк отвлекаться.
Враги рвались, враги врывались, враги разрушали, враги убивали. Так было раньше. Так и сейчас. Но теперь среди этих врагов каким-то диким образом и он очутился. Кого считал он врагом, был он сам, дядин племянник, тот его в тихие летние вечера посвящал в тайны семьи, рода, народа, которого он теперь враг, и сам себя убивает чуть в стороне от дороги большой, текущей вдоль великой реки, где им выпало тихая благодать, спасающая от гибели их тела и от смерти их души, в уничтожении людей неповинные.
Тихое выпало место. Тихая выпала ночь. Вот и гибель, и смерть выпадут тихими.
Как всегда, у них было тихо. Они? Кто они? Двенадцать рыбёшек и одна чуть крупнее, попавшихся на мелководье мелкоячеистой сети, их зачерпнувшей и бросившей на прокорм мёртвым кошкам и псам, которым до них не было дела. А в округе, ближней и дальней, для них, занятых хождением не за три моря, а так, да трапезами вовсе не тайными и не праздничными, а всухомятку, в округе для них недоступной наперебой, наперегонки, перекрикивая, как беснующиеся на бирже, во весь голос не про это орали, но сочиняли историю, как могли, как умели, как позволяли им обстоятельства. Сперва ошеломлённые, ошарашенные, мешком по голове удивительно эффективно прибитые, обильным слюноотделением бесчисленность слов окропляя, стали вещать, заикаясь и окормляя, писать, понятно, с ошибками, скрюченно примечанием в будущий учебник истории настойчиво пробиваясь. Тот ещё не вырванными, даже не написанными страницами шелестел, одни даты, имена вылетали, другие даты, другие имена, звеня всем, чем можно звенеть, звонко влетали, надеясь осесть, обосноваться, прижиться. Но! Званых много, призванных мало. И что? Кого это когда останавливало? Вот и рвались безостановочно, позабыв свой шесток, рассудком тронувшись основательно. Акулы пера, объём пасти увеличив до размеров невиданных, перемалывали всё, что плавало, что в пасть приплывало, из мусора творя акульи поделки и щедрой рукой раздавая, сея то, что пришлось, не слишком, понятно, разумное, о добром нечего говорить, вечное, увечное — какое придётся. Славно было бы поглядеть на двенадцать воинов, от войны волею случая отлучённых, во главе с прапорщиком Петровых, внимающих этому засорённому отбросами океану, шумящему, гремящему и мяукающему. Только такая картина резко противоречила бы естественному ходу событий. Потому картина была повседневно привычной: прогулки в брониках с автоматом через плечо, трёхтрапезное питание, Чапаев и размышления о бренности человечьего бытия по углам помещения, волею обстоятельств и по приказу прапорщика Петровых в казарму временно обращённого. Интересно, повесят ли на двери когда-нибудь доску мемориальную, откроют ли музей, а может, станет казарма местом поклонения: сначала волхвы, потом паломники-пилигримы, затем и туристы? Интересно, однако неведомо: будущее темно, завесой плотной без дырочек для подглядывания напрочь закрыто. Так что бабушка с флагом страны-атлантиды в руках с мозолями от чистки картошки поприветствовать его не сумеет ни в виде памятника, ни в виде белково-мыслящего существа.
Пророки? Жуть! Муть! Чернокнижничество! Отменены. Пытавшиеся пророчить давным-давно перебиты. Да и ну их. Что ни скажут, то стой, то падай. Какой пророк и когда счастливое будущее напророчил? Тот, который про орала проорал несусветное? Ну и? Поверили? Так что базар фильтруйте, а лучше молчите, перед неведомым будущим трепеща, в голубином ворковании услышать благую весть уповая. Правды, истины не чурайтесь! Не чурайтесь — не чураемы будете!
Их никто не чурался. Некому в мёртвом городе было чураться. Разве что трупам. Выжившие в аду, они имели вид людей, потерявшихся в прошлом, завязших в болоте, из которого вылезать не хотели.
Зачем они, бежавшие из ада под выцветший свет пьяной от крови луны, из чёрной бездны кратко блеснувшей, зачем они, тишайшей благодати сподобившиеся, по мёртвому городу ходили-бродили? Смерть от пустоты охраняли? От смерти пустоту берегли? Вопросы дятлами их головы мерно долбили. Во все стороны ошмётки коры отлетали.
Палка была не о двух — о слишком многих концах, чтобы понять хоть бы что-то.
Среди немногих развлечений их скучной муторной жизни было наблюдение за мутным беззвёздным небом, в котором время от времени появлялось свечение, уверенно по небу бредущее, чтобы, найдя цель на земле, её уничтожить. Иногда навстречу уверенному и большому появлялось свечение малое в своей способности поразить не уверенное, которое, стремясь к большому и вокруг него увиваясь, изображало нечто похожее на брачный танец, в котором, если случится, если сойдутся, если друг в друга проникнут, оба погибнут. Тогда оба вспыхнут огромно, и, угасая, упадут на землю железом горячим, на лету остывающим, землю пронзающим обессиленно.
Конечно, свет — жизнь, конечно, свет — радость. Однако не всегда не во всём и не всем. Зачем их вытащили на свет из ада? Рыбами задыхаться на суше? Нет, не рыбами, не задыхаться! Не задыхаться — гордиться? Чем? Величием!
И знали они — живые и мёртвые, ещё живые и уже мёртвые — все знали они, что их жизнь и смерть не напрасны, ведь всех освящают светом нетленным своим лучи звёзд пятиконечных, во все стороны мира враждебного устремлённые. Никогда, в многовековой истории никогда одна страна со всем враждебным миром, сошедшим с ума, не сражалась. За что? За великие ценности! И если кто спросит: какие, ответ будет уверенным, чистым и ясным, как глазёнки ребёнка, папой и мамой воспитываемого: великие ценности! Те, которые за высокими стенами с чайкиными хвостами в сокровищницах духа хранятся бережно, тщательно, осторожно Великим Хранителем, богопосланным их охранять. Что человек? Спросил псалмопевец. Ничего, так, пустое, трава, утром зеленеет, к ночи засохла. Великий Хранитель, принуждающий к миру чужие народы, а свой понуждающий нищету и смерть возлюбить, эту мысль разделял, охранял охраняемое, хранил мысль эту в сердце, в одном из желудочков, куда никакому врагу не добраться.
Он думал. Он мыслил. Он размышлял. Мысли большие и грандиозные, ни одной малой, ни единой мыслишки, все огромные, планетарные пчелино роились, звенели, медово в мозг проникали.
Гвозди бы делать из этих идей,
Не было б в мире острее гвоздей!
Вот ими-то, гвоздями-идеями всех врагов пригвоздить к позорным столбам, на центральных площадях городов мира поставленным, чтобы шли победители, да что там, все прохожие шли, правду-матку познавшие, и в пригвождённых супостатов плевали, харкали, дипломатическим языком говоря, выказывали пренебрежение одним из естественных отправлений живого здорового организма.
В коридорах, окружавших пространство Великого Хранителя, не ходили и не дышали, мухи не летали, собаки не лаяли, коты, даже мартовские, и те не мяукали: не спугнуть, не отшибить, не порушить. На то был и принят закон, всякое шумное движение губ или рек отменяющий.
Только для великих часов и великого гимна исключение сделали. Новое время отсчитывая, старые часы ржаво скрипели, частенько назад оступаясь плюсквамперфектно, гимн гремел, граду и миру те же щи только пожиже, как всегда, согласно рецепту из несвежего мяса и тухлой капусты за ворот вливая, не обжигая: остыли.
Он мыслил. Он существовал. Хотя для врагов это было невыносимо. Тем хуже для них. Пусть мучаются. Пусть страдают. Пусть пятнами ярости с ног до головы покрываются.
Его, Великого Хранителя, боятся враги, ведь не знают тупые безбожники, какую миссию свершить ему предпишет Всевышний. Что бы ни предписал — исполнит Великий Хранитель. С Богом ты или с истиной? Кто это сказал? Кто это спросил? Кто бы ни спросил, с Богом — ответит. Может, сам себя и спросил, начитавшись цитат? Коль и так, не сам же себе в уста вложил этот вопрос. Значит, голос народа услышал, глас тысячелетний, малиново колокольно звенящий. Кто первым сказал: ты — Мессия. Так и сказал не шутя, с самой заглавной из всех заглавных литер: Мессия. И понятно, что ты. Мог ли он увернуться, отвертеться, попросту сказать, сачкануть? Не было выбора. Народ это понял, а до кого не дошло, очухавшись, от вражеских мыслишек отмахнувшись поганых, завтра поймёт обязательно, непременно. Все средства для исполнения миссии хороши, даже самые крайние, беспощадные. Всё — на алтарь Отечества и Победы! Остальных — к ногтю, в сортиры, мочить! От этих мыслей его грудь распирало, живот пучило, щёки и нос раздувало. Он чувствовал необыкновенную лёгкость. Как бы ни взлететь: ещё рано, не время, миссия к хляби приковывает, но твердь небесная манит настойчиво, неотвратимо. Вперёд! Ни шагу назад! Шаг вправо, шаг влево — побег!
Давно в блокноте ничего не появлялось. Но нынче бестиарий медведем пополнился.
Жил-был медведь. Бурый. Таёжный. На зиму в спячку впадал, лапу сосал, по весне просыпался. Все таёжные знали, что медведь туповат, неуклюж, повернётся — наделает бед, но вслух почитали медведя великим, с каждым годом всё громче, с каждым месяцем всё настойчивей, с каждым днём всё заливистей. С особой силой, конечно, таёжные соловьи заливались, до самых таёжных углов вселенной медведя великого восхваляли. Лев — царь зверей? Уморили! Может, это у вас, недомерков, а у нас это краснокнижное убожество не конает! Этой вашей мелкой скотинке в медвежатнике нашем небо с овчинку! Так что не суйтесь! Не то отрежем, подрежем, обрежем и то, что подумали, и то, о чём позабыли по причине вымирания и всеобщего одряхления. И зарубите себе на чём хотите, хоть на носу: если что — повторим, так что на тайгу нашу кедровыми шишками изобильную не зыркайте: медведь рык издаст молодецкий — моргалы из орбит повыпрыгивают и назад не вернутся, никакой офтальмолог обратно не вправит, никакой хирург конечности кривые не выправит, никакая заправка автомобиль не заправит: ни одной шишки вам, накось выкуси.
Оскотинивались медленно, но целеустремлённо, уверенно сатанея. Народ, не стесняясь друг друга, чесался в разных, в том числе труднодоступных местах, харкал, скоблил голову, перхоть вытряхивал, словно помои, портил и без того испорченный воздух. При таком раскладе чавканье за грех не считалось.
Кто? Кто для жизни временной их отбирал? Двенадцать рядовых и прапорщика Петровых для прижизненной миссии, цель которой им совершенно неведома. Доживут — им сообщат. Выживут — и узнают. Сподобятся не смерти, но тваредрожащего бытия — и проведают. Наверное, отбирал именинник. Кто же ещё? Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Отобрал. Выбрал. Избрал. А его? Чтобы рассказал-написал? Или не так что-то? Что, дядя, не так? Всё так. Всё путём. Тем, который к смерти ведёт за руку, не за шкирку тащит, словно кота, сметану сожравшего. Да и какая в вашей благодати медвежьей сметана? Какие коты? Все подохли, и мыши перед собственной смертью насмеялись над ними, точней сказать, надругались, устроив мышиную панихиду, со святыми котами, мол, упокой, все деревни мои, смотри матушка, Екатерина Великая, государыня-блядь! Смотри и любуйся, у тебя хоть были коты, а ныне? Мать честная, мышата-крысята. Серенькие, лысенькие, плюгавенькие. Да что о них. Как и все избранные, выбраны для того, чтобы от избравшего — вспомните прокукарекавшего — поспешно отречься.
Кукареку, господа, кукареку, парни, кукареку, пацанята. Все вы давно уже за шеломянем, смотрите не оглянитесь, в соляные столбы не обратитесь! Кукареку, Эвридика!
Куда вы, куда, гуси-лебеди, красноклювые, сизокрылые? Не дают ответа? Не надо. Лучше молча учитесь отчуждаемое от плоти сознание уловлять, шаманить звуками, изящно нашинкованными, как на квашеную капусту, похмелье одухотворяющую, звуками, мелко-мелко нарубленными, как лучок на манты, дух в самом удручающем состоянии воскрешающими, звуками, отдалённо похожими на слова, в которых ни смысла, ни ладу, как в заикающихся текстах великих современников наших.
Не кичитесь, братцы — сарынь на кичку! — постельными подвигами, лучше шаманьте. О ком? О библиотекаре (ветеринаре, механике), обожающем книги (животных, машины), люто людей ненавидящем. Шаманьте, не ошибётесь! Можно и так. Мир не мир, война не война, жизнь не жизнь, смерть не смерть, и всё остальное, что было да, теперь наоборот круто нет. Или о Вольдеморте, смертный полёт совершающем. Можно и о любви, от которой до ненависти один шаг, как известно, а вот пути обратного нет. Или о том, что когда-то писали книги «Человек в поисках смысла», а теперь пишут «Смысл в поисках человека». Да мало ли.
Шаманство шаманством, а блокнот, понятно, блокнотом, в котором бестиарий ждёт продолжения.
Волк (это заглавие). Может, кто-то меня сильней, быстрей и проворней, даже зубастей, но никто не смеет выть, как я, бесконечно долго, гулко, протяжно. Это я по ночам бесконечно зимним, мучительным ещё живым напоминаю: «У-у-у, берегитесь, рассветёт, берегитесь!» А они голову под подушку, чтобы не слышать. Мною пугают кур и малых детей. Кур, конечно, не зря, а малых детей — клевета.
Что-то коротко. Персонаж явно большего заслужил. Если буду жив, как писал Лёв Николаевич, то последует продолжение.
Сыро. На ветру хлопали флаги. Хлюпали носы. Чавкали сапоги.
По пути в благодать после ада — блажная явь, реальность снов, исчезающие видения.
День — ночь. Свет — темнота. Дорога — пристанище.
И там — желание, ненасытностью набухающее: подмять под себя — быть подмятым, вздёрнуть на дыбу — быть вздёрнутым, выгнувшись, стать на колени — поставить.
Чья сила сильней? Чьё желанье желанней? Чья воля вольней? Чья музыка сфер музыкальней?
Раззудись, плечо! Размахнись, рука! И так далее сверху вниз по порядку. Коса и пчелиный рой здесь не к месту и не ко времени. У плеча-руки на уме вовсе иное, заветное, нестерпимое, неоспоримое.
Руки не гнущиеся — заломили, спина не сгибается — разогнули, ноги не держат — легко повалили.
Скрипы, всхлипы и взвизги. Руки за спину, ноги над головой.
Задрожало, замелькало, запрыгало жарко, удушливо, горячо, сыро, мокро, вонюче — то ли он жертва, то ли ему жертва попалась. Чавканье, хлюпанье, чмоканье и сопение.
Над лицом вминаемым, над ногою вминающей и тому и другой невидимо, невменяемо прыгали луна и звёзды за тучами, от космоса бесстыдство плоти человечьей, скорбного духа смятение скрывающими, подобно Богоматери, над людьми плат защитный простёршей.
Кто кому попался? Кто кого мучил?
Зачем?
Рот разодран, губы прокусаны, кровища, солоно, гадко, слова запеклись. Ни сесть, ни встать, никак никуда не подняться. Поломал его тело или сам под ним поломался?
Сложить старался слова? Услышать пытался? Попытка — однако же пытка. Когда пытают или пытаешь, слова не нужны.
Вот и нет их. Пинки, удары, удушье. Не увернуться, не вырваться. Запрыгали искры в глазах. Потным адом дохнуло. Боль в мозги молотками. Не дать уйти и не вырваться.
Взорвать и взорваться. Услышать-сказать: «Цветочек, цветик, цветок, открой свой лепесток». Не понять, удивившись: это как, открыть лепесток?
Во время грубого и грязного таинства этого, торжества голой силы и желанья жестокого слова должны быть нежны и трепетны, как пух одуванчика, летящий ввысь над зеленеющей поляной в ясное голубоватое небо, сияющее оправданием любого бытия, где и какое случится, даже самого горького, самого гнусного, до краёв переполненного насилием и нелюбовью.
Или я? Или ты? Друг за другом в кусты. В закоулке густом пошалим под кустом!
Славно после шконки холодной бугристой.
Взревев от боли или рёв звериный услышав, задушив, задохнувшись, забиться рыбой на берегу.
Хлюп-хлюп. Хлоп-хлюп. Хлопки, хлюпики, Хлопуша, хлопушки.
Сдохнуть, чтобы воскреснуть, для того чтобы сдохнуть воскресения ради.
Адовыми крючьями они, друг друга повергнув, отчаянно желание утоляя, внутренности по очереди выдирали.
Вверх — вниз, снова вверх, чтобы вниз. Такая пляска, репетиция макабрической, избывающих желание ещё не убитых, бессмысленностью пустоту заполняя, прочерк: ничего не бысть, ликвидируя.
А вокруг них, пустоту своим движением насыщая, юные пейзане и пейзанки прекрасные в зимнем саду мёрзлые цветы собирают, вдохновенно букеты, полные надежд, сочиняют, ярко, яростно икебанствуют.
Явь? Видение?
Спрессовались, совокупились, языковые и сюжетные тонкости проигнорировав, надеваясь друг на друга, вдеваясь, упиваясь, впиваясь, и, друг в друга проникнув, восторженно вооружённые и потому очень опасные, застыли. Чем вооружены? Пистолетами, автоматами, ракетами и жутким желанием, камуфляжные брюки по швам разрывающим. Кто они? Пацаны, загнанные за флажки, кроваво трепещущие на ветру, сперва червей — и когда успели? — отряхивая, затем клоками и плоть, скелетами становясь, скукоживались и распрямлялись, сжимались и расширялись. Так и было бы написано на шалой шакальей скале, если бы такая здесь, на ровном месте, железом рваным загаженном, случайно явилась: здесь мёртвые пацаны рядовые шалили. И рядом для большей выразительности то же в стихах.
Голоного, голозадо,
Гологрудо и горбато
Здесь шалил гвардейский взвод,
Ликовал честной народ!
Реки зимой, если не замерзают, всё равно текут медленней. А у людей в памяти, все искусительные движения растеряв, существительными-льдинами застывает.
Мёртвая безглагольность.
Измученность. Везде липко, везде горячо. Такой вот сухой паёк. Концентрат. Влить воды, закипятить. Две минуты варить до полной готовности. И вкушать, глаголами насыщая: движется суматошно, к цели уверенно пробирается, извивается, содрогается.
И афоризм. Если кто принуждающим к любви восхищается, значит, он не насильник. Не так ли? Или как-то иначе?
Наверное, так. Только что оставалось после этого делать? Стать птицей? Улететь? Но куда? Стать рыбой? Но ближайший водоём загажен свежими трупами, а до других не добраться. Крокодилом, медведем, волком, персонажем из бестиария? Но для этого много чего необходимо, набор лего хотя бы. И где его взять? В гуманитарной помощи детям наверняка присылают. Только из солдата превратится в ребёнка, помощи этой достойного, ещё тяжелей, чем в персонажа своего бестиария. А зачем в него превращаться? Чтобы, набычившись, с волчарами по оружию по пустякам всяким собачиться? Или чтобы сподручней было тянуть: бабка за жучку, жучка за репку, репка за бабку. Круг замкнулся. Последняя остановка. Приехали.
Что делать? Выход один — хоть куда-нибудь дезертировать. Собрать бы всех своих из бестиария, может, ещё кого к ним добавить, рысь, пантеру, шакала, ещё, может, кого и — вольному воля, всем коллективом, всем стадом, всей стаей бездомно на просторы бездумно податься. В степь да степь кругом? По ночам, конечно, прохладно, летом жарко днём, зимой холод собачий. Или собак в стаю включить и на упряжке на полюс Северный или Южный, неважно, полететь, снежные брызги вздымая, белых медведей в коллектив приглашая. Конечно, вопрос: бурые с белыми — как? Задружатся или не очень? А если любовь? До медвежьего гроба. Какого окраса будет потомство? Для всего этого, однако, надо бестиарий пополнить. А это время и вдохновение. Это человека описать дело плёвое, чик-чак, мысли гнусные, мыслишки подлые, размышления банальные, мечтания скверные, метания тривиальные, соображения и вовсе грошовые, штришок-другой, родимое пятно на месте известном, пара-тройка морщин, тайные вожделения, и, пожалуй, готово. Со зверем так не получится. Поглядите на белку, лису, не говоря о слоне: таинство, глубокая тайна. Попробуй постигни, пойми, опиши. А потом вместе со всем прекрасным зверьём и Тарзаном и Маугли одним мощным прыжком взлететь весело на весенний пригорок, чтобы, скинув камуфляж и в стороны руки раскинув, ощущать, как сквозь усталую плоть в душу, дух свежий вдувая, проходит солнечный ветер, тёплый и ласковый, пахнущий светлой сиренью и бело-розовым каштановым цветом. И гимном могучим, голос свой в хорал звериный вливая, мир озарить, к всеобщей радости призывая: люблю, мол, грозу (и не только) в начале мая (и в другое время, конечно).
Люблю!
И меня любите!
Люблю!
И нельзя, ни в коем случае нельзя спрашивать кого-либо, себя в первую очередь, что он, что они все делают здесь. Всё едино ответа не будет. А вопрос, разрастаясь, будет череп изнутри долбить недодолбанным дятлом, пока дырку не продолбит, через которую мозги то ли выльются, то ли просыплются, то ли выдавятся лимоном на устрицу, нет, кремом из трубочки, вспоминая которую, вкус ощущая, непременно облизнёшься широко и привольно котом, дорвавшимся до сметаны, белой, жирной, за края посудины выползающей: обратно не запихнёшь. Да и зачем, если можно языком красным белоснежное это слизывать, чтобы в конце облизать, сожалея: всё в мире кончается, особенно быстро вкусное и любимое, в том числе жизнь.
Вначале салагам, салабонам устроили новогоднее счастье, было красиво: бенгальские огни, хвойный дух мандариново-и-прельстительно, но мимо-обманчиво. Тут же праздник закончился, будни кровавые наступили: пули, мины, осколки прошивают насквозь пространство, бьют в землю и в небо, всё вокруг обездвиживая, усмиряя. Головы мячами летают: в аду в футбол ими оторванными ногами играют, оторванными руками в перчатках только мёртвому вратарю позволяется. Такой Апокалипсис: существительность сгорает дотла, пустая бессмысленная глагольность огнём и кровью рисует небо в алмазах.
Кровь течёт, брызжут мозги, огненным озером горючее растекается, знамёнами полощется дым, вспыхивает, горит, догорает, накаляется, плавится, лопаются глаза и бутылки, искры, осколки по закоулочкам, которых здесь нет, разлетаются, гвоздями в мёртвую плоть утыкаются, криво к крестам деревянным прилаживая, их не поднять, не снести, под тяжестью не упасть, мёртвым лицом в землю обожжённую не уткнуться, потому что нечем и не во что: пустота в пустоту — всё сгорело, в дым превратилось густой, который, поднимаясь, редеет, светлеет, и вот уже только хлопья сереют в предутреннем свете, непонятно как, не ясно зачем, но день наступает, а раз день — будет пища, которую уцелевшие будут есть, отвернувшись, чтобы с ума не сойти, хотя это никак невозможно после того, что они видели-слышали в этом аду, который, наверное, время от времени на земле должен случаться, чтобы люди не забыли, что рай существует, хотя туда не попасть, безгрешных людей не бывает, туда так просто не пустят: ключник апостол Пётр строг ужасно и всё такое.
— А те как же?
— Горящей плотью смердят.
Когда-нибудь, может, и скоро наступит весна, грянет цветенье и червей копошенье.
Ни трёх товарищей, ни трёх мушкетёров в жизни его не случилось.
Нежданно-негаданно, ни за что ни про что случилась война.
От папы-мамы отбился, к жене не прибился.
Дядя был далеко.
Врагов ненавидеть не научился.
Жил не очень долго, не слишком счастливо.
На этом он кончился.
Утонул в болоте.
Растворился в тумане.
Иссяк.
Время остановилось.
Его больше не было.
Дезертировал.