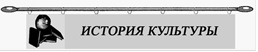К 80-летию со дня смерти
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 75, 2021

1
«Как искры из ракет…»
Хрестоматийное определение появления в литературе Цветаевой, сделанное ею же, вращалось вокруг предположения: «когда не знала я — что я поэт…».
Кажется, она родилась не в жизнь, не в действительность, а в державу, в империю языка, которую ей предстояло несколько видоизменить своим присутствием; или — изменить настолько сильно, что уже вряд ли последующим поэтам можно писать так, будто ее не было.
Сложно сказать, долетели до нее брызги Маяковского огня, или всё шло от избыточной раскаленности собственного дара; ибо то, что большинство посчитало бы мелкой тенью, в Цветаевой вспыхивало фейерверком роз; розы эти, разлетаясь словесными лепестками, просвечивали каким-то совершенно необычным миром, одаривая привычный многим.
Чудеса рифм: они вихрились, вырывались из собственных недр, возникали там, где, казалось бы, их и быть не должно; совершенно необычный синтаксис — опять же вихрящийся веревочно, рваный и вместе цельный; словно многие двойственности жизни сводились в одно, давая новые и новые лестницы подъемов в невообразимые пространства.
Европейский лад, казачье неистовство, мчащийся, скачущий автобус, вдруг обрывающийся безумием Новохудоноссора, вырастала «Царь-девица», играл с лунным светом Казанова, неистовство античности выкипало, выхлестываясь через край современностью страсти…
Она была своею во всех веках, прожив избыточно жизней; она горела пророчеством о будущем: пускай смутным, рассыпанным великолепием искр по самым разнообразным линиям стихов и поэм; она возводила «Поэму Горы» и «Поэму конца», так, что никакой конец был невозможен, а горы громоздились тою метафизической вечностью, о которой грезят все поэты…
И, кажется, в бесконечном продлении, Цветаева продолжает ткать, рвать и создавать бесконечные варианты реальностей, столько их оставив на земле, в неистово кипящих недрах своего творчества.
2
Лестницы меж облаками — ступени прозы Цветаевой; прозы, разворачивающей действие мысли: ее театр, ее замечательные панорамы.
«Дом у Старого Пимена» или «Отец и его музей» — как сочетают они, полновесно соблюдая баланс, историю собственного (Цветаевой) духа и историю времени, где свершения важны только в духовных планах.
Никакой игры — только игра созвучий.
Жизнь — смертельно всерьез: мистикой поиска пронизанная, уходящая в бездны смерти.
Жизнь рвется жимолостью — и чёрт из рассказа не так страшен, как обвал в мещанство, в дебри быта, в вещизм.
В Цветаевой много от странствия дервиша, у которого вечность в запасе; при этом фразы телеграфно сообщают и о конкретике яви, и о величие замысла.
Ее замысел — эпос, и часть его была воплощена в сводах ее прозы: нисколько не уступающей стихам.
3
Жизнь словно протаскивала и Марину, и Анастасию через такие жестокие фильтры, чтобы высветилась только суть огромного дарования обеих…
Если встать на позицию: страдания осветляют, поднимают, лечат от земных привязанностей, то все тяготы сестер были обоснованы; никто, однако, не сможет доказать, что позиция эта верна, и жизнь, если внимательно наблюдать за нею, горазда опровергать твердость оной позиции.
Тем не менее обе жизни настолько пропитаны субстанцией трагедии, что, кажется, и творчества не должно было быть — а вот оно: роскошными полотнищами победы над суетой и временным развернутое…
Грандиозные ритмы Марины точно уравновешивались спокойными, плавно-медитативными прозаическими пассажами Анастасии…
Ведь и проза Марины — от ее поэзии, от синтаксиса до рвано-мускульной, телеграфной манеры движения фраз…
А проза Анастасии, столько вобравшая в себя, мешающая историю, метафизику, бытописательство — плана неспешно покачивающихся на волнах кораблей — и хоть порт приписки неизвестен, но сам путь сулит столько замечательного, что диву даешься.
Широкие полотна воспоминаний развернуты и испещрены бесценными письменами, адресованными в грядущее, где непременно должно быть лучше.
…где — не должно быть сытого и тупого бюргерского царства, из которого ловкий музыкант уводит детей, играя на дудочке.
…где — должны сиять лестницы гуманитарной культуры, способные предложить столь высокий подъем всем желающим.
…где — снова есть, что есть, и просто перечисление этого «есть» едва ли будет питать оптимизм.
Тем не менее, сияющие имена двух сестер становятся источниками света для тех, кто окончательно не изверился еще в гуманитарной правде.
4
Неизбывность агрессии очевидна, если брать животную сторону человека: сильнейший всегда будет атаковать тех, кто слабее.
Но стойкость человека, способность не гнуться, противостоя антрацитовой энергии атакующих, не есть ли это отсвет дальних огней, недоказуемая в нас гамма световой силы (как — способность к подвигу)?
Прекрасная Германия, залитая безумием, Германия, столь любимая Цветаевой, вибрирует в стихах ее, подвергнутая уничижительному анализу:
О, дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.
Весь цикл стихов к Чехии, учитывая вибрационную силу цветаевских стихов вообще, построен на двойной вибрации: такой силы, что пространство вокруг, казалось бы, должно изгибаться.
Стихи не удержать — они рвутся выше и выше, неистовствуя и вспыхивая огнями, рассыпая пригоршни соли и разметывая пепел, которого быть не должно.
Цветаева подходит к формуле понятия «народ» через волну восхищения:
Его и пуля не берет,
И песня не берет!
Так и стою, раскрывши рот:
— Народ! какой народ!
И офицер, оставивший двадцать солдат в лесу, вышедший на дорогу, занятую немцами, и начавший стрелять в них, вырастает до метафизических объемов древнего царя Леонида:
— край мой, виват!
— Выкуси, герр!
…Двадцать солдат.
Один офицер.
Мурашки идут по коже от чтения цикла.
Но — мурашки еще идут по коже тела души, и мозг заливает жидкий, горячий свинец протеста: так не должно быть.
Так есть — во все века, и в былом и ныне.
Что не мешает стихам вершить их грандиозную работу — хоть и не дано им сил, сколь бы грандиозны они не были, менять реальность…
5
Город Гаммельн, гордящийся древностью и следованием в жизни линии дедов; город, жизнь внутри которого крепкая, как репа, не ждет бед.
Тем более, исходящих от крыс — серого, упорного, адски прожорливого воинства, готового вносить свои коррективы в реальность.
(Через годы возникнет «Чума» Камю, где болезнь, закрывшая другой город, высветит сущность людей сильнее, чем рентгеновские лучи способны пронизать тело.)
Цветаевский Гаммельн слишком правильный для беды — всем, вплоть до собак, видящих во сне ошейник, даже снится то, что должно…
Но… крысы, крысы.
Но — косность людского мировосприятья, готового довольствоваться только видимым материальным.
Крысы и видны — в отличие от чумных бацилл.
Пошлость человеческого сердца, низость мыслей и скудость интеллектуального пожитка — тоже болезни, но бациллы их не исследуешь под микроскопом.
В сущности, «крысолов» — об извечном конфликте материального и духовного: а гармонию человеку не обресть.
Музыкант — из разряда «нищие, гении, рифмачи, Шуберты, музыканты» — для бюргеров хуже чёрта; но только он способен разрушить крысиную Индию, положить конец серохвостатому раю и вернуть — рай бюргерский, пышный, твердый, как репа…
Он и уведет крыс, а не получив Греты бургомистровой — детей.
…шумная их вереница (точно крестовый детский, древний поход) погрузится в воду, следуя колдовской дудочке.
Расплата страшна, на такую бюргеры, отказавшиеся от обещанной платы, не рассчитывали.
Но бюргер — нечто противоречащее человеческим творческим возможностям; как нищий музыкант — сгусток оных.
Оттого и расплата такая, какой не ждет никто.
Но — стих вибрирует, перенасыщенный метафорами, переполненный лицами; сам — «нещадный, как Тора».
Стих дидактический, хотя и скрыто — коли не найти гармонию меж внутренним и внешним, не жить вам, люди!
Стих эмоциональный чрезмерно, как изобильны лица внутри поэмы, и черточками, точками, эпитетом иногда выкругляются лица эти, становятся зримы…
…Любые предупреждения поэтов уходят в пустоту: мир предпочитает внешне-материальное изобилие всему другому.
Мир будет сверкать и переливаться, шуметь, гулять, избыточно есть и пить, пока не появятся крысы.
А потом — крысолов.
6
Цветаева — взрыв и мука, рвущиеся сознательно провода веков, — чтобы соединиться огненными, кипящими концами, дабы старые смыслы, изменившись, выхлестнулись в наш ад.
В наш рай — ибо и то и другое соединяется странно, причудливо, в одной душе, в одной муке.
Цветаева, у которой даже «Автобус» доезжает до Навуходоносора — каков ассоциативный размах! и царь, жрущий траву, сиганувший с ума в бездну безумия, проявится, как персонаж не самой главной, но такой бередящей душу поэмы — «Автобус»…
…Ахматова — как спокойное натяжение паруса, как сдержанная властность королевы (Мама, не королевствуй! — просил творец теории золотых шаров: пассионарности); Ахматова знаменитых погребков, где выступающие — пьющие и читающие — в равной мере плыли на волшебных облаках вдохновения и свинцово сознавали себя участниками мировой мистерии, слишком круто завернувшейся в двадцатом веке).
(Как бы обойтись без двадцать первого, низводящего поэзию на уровень собирательства кактусов?)
Цветаева — русским штормом врывающаяся в средневековый Гаммельн, чтобы в детальном вихре строк описав его, вывести приговор мещанской благости, ничего общего не имеющий с благодатью.
Цветаева, поющая лунную Офелию, пока покорный неведомой флейте принц сидит на скорбном берегу.
…Ахматова, скорбь разливавшая в стихах густо, как мед — необходимый для вкуса жизни; Ахматова, столько раз изображенная художниками, графически-гранёная в дымчато-синеватой фантазии Альтмана; понимающая самую косточку жизни…
Косточку, не подвластную гниению-тлению, превосходящую силой своей все законы, включая тот, что трактует о земле, как о магните: Ахматова-взлет, Ахматова-прикосновение к небесам…
…Даже к «небеси», как поется в единственной произнесенной Христом молитве, данной заветам всем малым сим.
Цветаева, восстающая против малости, любящая чёрта, о чем говорится в прозе ее, такого чёрта — что пугаться нечего: больше на дога похож: великолепного, очень умного, своеобразно красивого датского дога…
Цветаева, рвущаяся ввысь и ввысь — на дребезге сакральной струны, превращаемой ею в музыку: недаром в стихотворении «Новогоднее», посвященном великому, стихи превращавшему в камни смысла Рильке, возникает баобаб: мощь, которой не дано взлета.
Не дано никому.
Только мысленно.
«Шиповник» Ахматовой — как вариант космического корабля; она вся — в фиолетовом космосе, прекраснее которого нет, даже если «Реквием» должен прозвучать, даже если придется написать несколько холуйских стихов…
Она сама — как взлет, одновременно — космос и корабль, прободающий его бездны…
Цветаева — как разверстая бездна: концентрические круги: фантасмагория жизни.
Она — как порыв к Исайе, к Иеремии, меньшее невозможно…
Ахматова, собеседующая с Соломоном — под музыку Пёрселла, чьи невероятной высоты столпы и колонны, кажется, превосходят понятие святость…
7
Идиллия городка, где грех редок, рисуется сильно рвано-сказочным слогом, с массою таких деталей, когда отступление о пуговице становится бьющей током с проводов легендой…
Цветаевский напор ошеломляет, и появление крыс станет столь же логичным, как потом крысолова.
В сущности, в поэме извечное цветаевское противостояние — голод голодных и сытость сытых — слишком сытых бюргеров и нищего, тощего, с дудочкой, не разменивающегося на быт.
Зачем ему Грета?
Ни распоясавшихся невест,
Ни должников, — и кроме
Пива — ни жажды в сердцах. На вес
Золота или крови —
Грех. Полстолетия (пятьдесят
Лет) на одной постели
Благополучно проспавши, спят
Дальше. «Вдвоем потели,
Вместе истлели». Тюфяк, трава, —
Разница какова?
Телеграфное неистовство рвется золотом стихов, нагнетая детали, увеличивая массу подробностей, через которые должна проступить сущность мира.
Но она проступает в лице крысолова: способного избавить город от крыс, но тою ценою, какую не захотят платить бюргеры.
Но — отказавшись от одной цены, можно заплатить иную: гораздо более страшную.
…Быт восстанавливается каталогом: ярко-красными языками пламени, ощущением неправильности… жить только бытом.
Но — бюргеры и есть бюргеры: они, собственно, сами по себе отрицание всякого художества, дерзновения мысли, небесных устремлений.
— Свежего, красного
Легкого для пастора!
И пойдет трещотка разговоров; и жизнь людей этих: суетливая, вся вокруг материального восстановится ярко, плотно.
Естественно, удар будет нанесен именно по материальному: крысы начнут пожирать запасы, раз не могут сожрать самих обывателей.
О! Они хотели бы: разрастание крыс велико, огромно и значение в жизни взятого в объектив Гаммельна (у Камю не так)…
Насмешка над мерой — символом города — едва ли обоснована, но Цветаевой близка безмерность, мера для нее — символ ограниченности.
Начнется Индия крыс: их торжество, их бархат; будет городской совет, где рожи крепки, как и тела: и то, и другое напоминает окорока.
Начнется, закончится…
Увод крыс был щеголеват, увод детей — страшен…
Так ли хорош крысолов?
Едва ли он тянет на гения — если только, как персонаж.
Однако вся поэма, неистовствуя и полыхая, предлагает своеобразную панораму века: с жировыми складками богатства, уводом многих в недра ложных идей (кто такие взрослые? В сущности — выросшие дети), и со многим еще, так яростно отраженном в рвущихся ритмах Цветаевой…
8
Горе и гора оказываются союзны: неистовство Цветаевой не убывает:
Вздрогнешь — и горы с плеч,
И душа — горé
Дай мне о гόре спеть:
О моей горé!
Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о горе спеть
На верху горы.
Светоливень цветаевских строк вибрирует напряжением горя и сострадания — ко всем, все малые си, всем умирать, а что там…
Гора — символ высоты, символ предела: над ней, впрочем, иной предел, небесный; и гора, дающая образ рая, оказывается волшебной: как язык, который разбрасывает вокруг сияющие камни слов.
Драгоценных, звучащих иначе, чем раньше…
А вот — неистовство «Автобуса», даже не едущего — скачущего, трясущегося, вовлекающего в тряску всех, помещенных внутри: никакого ровного движения: оно должно быть таково, чтобы обеспечивало взлет…
Тряска долетит до Навуходоносора, до глобальных обобщений: снова узнаем, что лучше мародер, чем гастроном, снова поймем, насколько Цветаева ненавидит всё косное, унылое, избыточно сытое, прямо-ровное…
…Столб встанет перстом, возникнет «Поэма конца»…
Они словно растут из неопределенного зерна огня: ее поэмы, и строки их — неистовство разлетающихся языков, с брызгами красно-оранжевого цвета.
Вся Цветаева — очень горячая, и цвета вспыхивают: красный, золотой, оранжевый…
Никогда белый, даже если снег идет.
Ширь разольется, возникнет цветаевская «Сибирь» — тут уже не обойтись без заходов в историю, но и они будут своеобразны, и в них казацкая стихия загудит так мощно: цветаевскими проводами, по которым бежит поток огня.
Поэмы — логичные продолжения стихов, но у Цветаевой всё алогично…
«Царь-девица» закрутится сказкой, и нечто ветхозаветное просквозит на фоне, и из русского заветного пантеона выпорхнет жар-птица.
Возможно, Цветаева и писала не строчками, а перьями оной: оттого так светятся огнем и мыслью ее поэмы и живут неистово, и кажется иногда — не нуждаясь в читателе, просто — соприкасаясь с запредельностью космоса…
9
Стих напряжен и заострен: сам стих — острый угол, как охарактеризован Дж. Казанова — блестящий вечный образ, кочующий по векам…
Струиста Венеция, таинственна; не имеющая альтернативы в воздухе, предлагает жить на воде: и прямо с качающегося носа гондолы можно вступить в помещение…
Уголь Казановы будет четко прочерчивать действия, насыщая их внутреннее содержания красками разных цветов.
Лунный лед — так характеризуется Анри-Генриэтта: и сочная точная краткость словосочетания уже рисует характер.
Дело в нем — или же в стихах?
Превалируют последние, вводя в фантасмагорию цветаевской мистики, раскрывающуюся экзотическими цветами.
Слишком холодно в России, чтобы Венеция стала родной.
Слишком всё прозаично у нас — чтобы она родной не была.
Для Цветаевой родная в той же мере и Греция «Федры» — где хоры звучат так, будто расстояния между нами и античностью не было.
…Розовато-мраморной античностью, вдруг закипающей таким котлом переперченных страстей, что диву даешься…
Выдержит ли сердце подобное напряжение?
Напряжение цветаевского стиха из той же серии…
Ее драматургия — очень из серебряного века: с одной стороны, и слишком от всемирности — или всемерности — с другой…
Но любой монолог из любой ее пьесы сам является выдающимся поэтическим произведением.
Кенотаф М. Цветаевой в Тарусе. Установлен в 1988 г.
В 1934 г. М. Цветаева писала из Парижа:
«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище… Но если это несбыточно…
я бы хотела, чтобы… поставили с тарусской каменоломни камень:
ЗДЕСЬ ХОТЕЛА БЫ ЛЕЖАТЬ
МАРИНА ЦВЕТАЕВА»