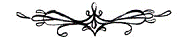Рассказы
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 43, 2014
Два голоса любви
Рассказ
Осень пришла. Ручей вырвался из-под камней, ухватил пригоршни листьев с берегов, расстелил их по поверхности прозрачных струй и двинулся дальше, набираясь сил по мере спуска с горы. Это повторится девяносто три раза за его жизнь.
Нет, это неудачное начало. Начнем с середины этого осеннего дня понедельника, ведь у него сегодня день рожденья — почти на восемь месяцев раньше, чем официальная дата. Время его появления на свет было тревожным, банды лютовали по городам и селам. Его беременная мать бегством спасалась от них. Было не до регистрации рожденных, мертвых не успевали записывать. Рассказы матери он забыл уже давно. Его жена тоже не знает точный день его рождения.
Еще тепло, ветер стих. Летние туманы ушли из города. Он идет домой нетвердой походкой, с палкой для опоры, но довольно быстро. Немного припадает на левую ногу. У него большой рот. Когда улыбается, глаза молодо вспыхивают из-под морщинистых век. Хорошо выбрит. Волосы в ушах прикрывают медальоны слухового аппарата.
Он возвращается от сына, живущего неподалеку, хотя повидаться не удалось. Покричал лишь в переговорное устройство у входной двери. Голос у него громкий: годы войны, проведенные в экипаже танка, почти лишили его слуха, и аппарат помогает мало. Из окон выглядывают любопытные соседи: откроет или не откроет в этот раз? Рядом проходит женщина с ребенком. От громкого голоса ребенок начинает плакать, и мать берет его на руки. Старик переступает с ноги на ногу. Наконец микрофон торопливо произносит:
— Папа, ты иди, иди домой. Я должен побыть один, депрессуха страшная. Ты иди, пожалуйста. Давай в другой раз я приду к вам с мамой.
— Дима, — вновь зовет он, потому что не услышал ответ сына. Но сын уже более не откликается, и он уходит домой. Разочарованные соседи закрывают
окна.
Сын Семена и Сони начал спиваться несколько лет назад, когда спрос на его картины резко упал под влиянием экономического кризиса. Он ходит по квартире, заваленной тюбиками красок, старыми кистями, окурками и беседует со своими картинами, развешанными по стенам. Лица на его полотнах вглядываются в него, порою спорят, чаще соглашаются. Справа у окна несколько холстов, где он вспоминает город своего детства с его набережными, величественными проспектами и угрюмыми дворами. Он даже для компании посадил себя маленьким бесенком в картину, в которой бело-синий снег опускается на улицу, на реку, на булыжники мостовой. Но полотна молчат, а ему так хочется слушателей. Он быстро ходит по комнате, убирая с лица длинные волосы с полосами седины. Он все реже выходит из дома. Когда он пьян, становится груб, зол и еще более одинок.
На дом, где последние лет тридцать живут Соня и Семен, игривая рука строителя навесила под окнами верхнего этажа лепные украшения, более всего напоминающие игрушечные голубые унитазы. До их квартиры два пролета вверх. Семен проходит первый пролет и останавливается, держась за перила. В подъезде скучно пахнет старым ковролином, темно-красным, протертым в середине ступенек, да еще дырявым мусоропроводом. Как всегда в это время, соседка по этажу играет на виолончели. Почему-то виолончель и скрипку он слышит хорошо, хотя музыку, кроме простых танцевальных ритмов, не любит и не понимает.
«Уже который год все пилит да пилит, — думает он. — А что толку, раз не может выбраться из этого дома? Иначе чего бы ей, молодой, здесь сидеть? Здесь только старики живут, да помирают».
— Я так рада, — встречает его жена, гладкие волосы почти без седины, ярко-белая без морщин кожа на полных щеках, тонкие губы. — Пока тебя не было, ко мне пришел Димочка, сидел со мной. Так мы хорошо поговорили. У него дела идут на лад — получил большой заказ. Он все повторял: «Мамуля, ты у меня просто красавица».
Семен не возражает ей:
— Когда же он успел прийти? И почему меня не дождался?
— Но у него же дела, он очень занят.
— У него всегда дела, только на родителей у него нет времени.
Соня вступается за сына, который не был у них уже более двух месяцев, и они немного ссорятся. Потом расходятся по своим комнатам.
На стенах висят вышитые ею картины невиданных деревьев. У Сони удивительное чувство цвета, хотя она никогда не училась этому: деревья пылают яркими красками, тянутся вверх, заполняя ее комнату.
Семен разбирает свой слуховой аппарат, меняет в нем батарейки. Потом принимается раскладывать по списку вечернюю порцию лекарств для себя и для жены, которая стала часто забывать о них. Он думает о молодой женщине-враче, в которую влюблен уже почти три месяца, и о том, какая у нее легкая открытая улыбка. Он подсчитывает, что сможет пойти на прием повидать ее уже через полторы недели, а потом засыпает, чтобы это время быстрее прошло.
Природа милосердна к людям, хотя они, возможно, не лучшее ее творение. Как хорошо, что с возрастом память приближает к нам детство с голосами родителей, детство с его запахами и вкусом ягод, с людьми, забытыми давно, — с особенной радостью каждого давно ушедшего дня. Для многих оно остается самым счастливым в их жизни временем. Мы вновь проживаем его много позже, чтобы скрасить горечь неизбежной слабости и болезней.
Пусть они подремлют пока, сил наберутся для нового дня. Беспокоен сон старости.
Соня всегда спит лицом к окну, на правом боку, и накрыв ухо простыней. В молодости она была очаровательна, немного похожа на белочку. Она и сейчас кокетлива: «Я не могу переодеться в своей комнате. Все время из соседнего дома кто-то смотрит с третьего этажа и свистит мне».
Ей снится осень. Трамвай № 12 взбирается по горе к самой верхней точке города: один старый неторопливый вагон. Утром прошел дождь. Улицы и рельсы засыпаны мокрыми листьями. В конце маршрута большая коленом изогнутая ручка контроллера, которая служит и для ускорения и для торможения, снимается с крепления и переносится в другой конец вагона. Иногда отец доверяет ей нести тяжелую ручку. Потом она стоит возле него и теребит громкий звонок, напоминая, что время не ждет и пора в обратный путь. Она звонит до той поры, пока отец не кладет ей руку на плечо, притормаживая другой рукой на крутом спуске с горы. Она помнит, что у отца были небольшие, всегда теплые ладони.
…Полированное дерево вагона нагревалось на солнце. Она любила этот чистый запах, который напоминал ей отца.
Со своим будущим мужем, что сейчас спит в соседней комнате, она и познакомилась на остановке трамвая. К тому времени ее отца уже давно не было с нею. Великая война тогда недавно закончилась, и всем хотелось жить стремительно, молодо, долго. Ее не покидала уверенность в том, что она единственная любовь его жизни, что весь он до последней улыбки, до последнего дыхания принадлежит только ей. Со временем это чувство уходило, сменялось обидой на его неверность, потом возникало вновь.
Краткие увлечения Семена были привычны, более длительные измены обсуждались на большом семейном совете, где его стыдили сразу несколько поколений родственников. Жена его, небольшого роста, как и он сам, то садилась, то вскакивала и очень быстро повторяла неожиданно резким голосом: «За что мне такое? Сколько можно таскаться и бегать из семьи?» Мужчины вздыхали с завистью, женщины переглядывались.
Как известно, в долгих браках мужчина и женщина часто настолько близки и привычны друг другу, что даже лица их с годами перетекают в иные формы и становятся похожими. До самых последних лет Соню не покидало чувство, что не все ей известно о муже, что какая-то часть его существа ей принадлежать не будет никогда. Пять лет назад она торопилась в больницу, где Семен приходил в себя после сложной операции, хотя было известно уже, что опасность миновала. У входа в палату она остановилась от неожиданной мысли, что уж теперь-то он будет принадлежать только ей без остатка. Последующие годы укрепили ее в этом поздно пришедшем чувстве, окрашенном некоторым торжеством.
Ни одной из своих возлюбленных он не повторял слов той цыганки. Он был тогда еще почти мальчишкой, но сила страстных желаний и пронзительная реальность сновидений пугали его. На курорте у моря, где он был с родителями, весь мир, казалось, состоял из грудей, бедер, гибких ног, покрытых пушком и совсем гладких, которые все время находились в движении вокруг него.
День выдался неожиданно холодный, разрывающий рутину курортного ритма, словно под ноги танцующим выплеснули ведро воды. Он помнил этот оттолкнувший его вначале запах ее кожи и шуршание юбок, которые она подняла для него. На щиколотках, на запястьях у нее были повязаны разноцветные нитки — видимо, на счастье или на мудрость. Она издавала странные звуки, частью хрипы, частью окрики, и еще ему слышался какойто металлический стук над головой. Когда они оба устали от любви, он увидел капельки пота и морщины у нее на шее. Один из шаров в изголовье кровати, на которой они лежали полуодетые, был плотно привинчен. Тогда на прощанье она и сказала ему те слова, которые он помнил всю жизнь, хотя более он не встречал эту женщину. Он приходил к ней несколько раз, но дверь была всегда на замке, а потом лето закончилось, и он с родителями уехал с курорта.
Бывают люди, необычно одаренные искусством любви. Всю долгую свою жизнь он находился в состоянии влюбленности. Искренность его восторга перед чудом Женщины при всей прямолинейности подхода обычно находила отклик в женских сердцах, и, когда они расставались, женщины помнили его через много лет. Однако сильных, уверенных во власти своей красоты женщин он побаивался и сторонился, они смущали его.
В промежутках между увлечениями он искренне ухаживал за своей женой, часто заставляя ее вновь поверить, что только она — настоящая любовь в его жизни.
Где-то там все земное сочтено да взвешено. Он не мог знать того, но известно было, что любил он девятьсот девяносто девять женщин, и первою была та цыганка. Она-то и сказала: «Пока можешь любить, будешь жить», — и он поверил, что каждая влюбленность останавливает движение времени, и потому жить он будет вечно. Ну, может, не вечно, но очень долго.
Пожалуй, более всех занималась делами стариков их дальняя родственница, которую Соня недолюбливала за то, что та была в жизни слишком успешной. Родственница привозила им иногда продукты, возила к врачам, даже нашла им женщину для помощи по дому, так как они оба постепенно слабели. Но Семен, всегда восхищавшийся красотой и веселостью нрава родственницы, воспротивился появлению иной женщины в их доме:
«Нет. Не хочу никого. Я ведь могу в нее влюбиться, и мою Сонечку это может огорчить. Я буду сам за ней ухаживать. Да, ну и что? Ну и помою ее, конечно, сам. Не первый же раз». И он действительно моет ее, и старики смеются громко и молодо.
Но грустно ему стало, что отказался он от этой неизвестной ему женщины. И так он загрустил, что лег на диван и сказал жене:
— Буду, наверно, умирать, Соня. Даже вставать не хочу.
— Ну давай вместе.
Легли старики каждый в своей комнате — она под яркими деревьями своих вышивок на стенах, он рядом с пачками газет и журналов, и лежат. Тихо. Он повернется с боку на бок, покряхтит громко так да грустно. Она его спрашивает: «Ну как ты?». Помолчал он, потом ответил: «Знаешь, нет, я передумал. Давай в другой раз».
В среду рано утром Семен проходит возле дома, где живет его сын. Одна из штор на окне в спальне приоткрыта, и ему кажется, что сын стоит у окна. Он знает, что сын еще, конечно, спит, но на всякий случай он переходит улицу и некоторое время стоит у подъезда, опираясь обеими руками на палку и глядя на второй этаж. У него начинает кружиться голова. Он перекладывает палку в левую руку и уходит в сторону медицинского центра.
Молодая женщина-врач, в которую он влюблен, приезжает на работу между 8:20 и 8:25. Из окон маленького кафе хорошо видна ее светло-серая машина, всегда стоящая в трех-четырех метрах от рекламного щитка этого центра. Сегодня холодный день. Она выходит из машины, ежится от ветра, быстро идет ко входу, и он думает, что на ней тонкий свитер и она слишком легко одета. А еще, что у нее очень красивые стройные ноги и что она может опять простудиться. Месяца полтора назад так и случилось. Она ходила в маске. У нее были совершенно больные, налитые слезами глаза, и он так расстроился, что, выйдя из ее кабинета, стал задыхаться и долго сидел в коридоре с закрытыми глазами. Семен не может приходить часто, чтобы не вызвать смятение жены, поэтому он приходит на прием лишь раз в полтора-два месяца, просто чтобы посмотреть на нее вблизи. Когда он говорит, что просто видеть ее продлевает ему жизнь, она смущается и краснеет.
Семен сидит с чашкой горячего чая у окна в кафе, где уже привыкли к его утренним визитам по средам. Он думает, как хорошо, что у него еще есть силы любоваться ее красотой и что в эти минуты он забывает об унизительных процедурах обслуживания своего очень усталого и больного тела. И ему кажется, что какая-то часть в его душе все еще молода, хотя каждый день и она становится все старше и слабее.
Он обнимал женщин во всех странах и городах, где он бывал, начиная с той цыганки, которой уже, конечно, давно нет на свете, что дала ему познать любовь обладания. А сейчас, когда почти все желания уже ушли из его тела навсегда, он узнал любовь созерцания и тихое счастье, приходящее от возможности видеть эту женщину, думать о ней, находиться иногда рядом с нею, пусть совсем недолго. Семен греет руки об остывающую чашку и думает, что, может быть, как это часто бывает, она что-нибудь забыла в машине, и тогда он увидит ее сегодня еще раз.
А в пятницу он умер. Очень легко. Повернулся во сне, вздохнул, и отлетела его душа. Никому не досталась. Соня посидела возле него. Медленно перешла в свою комнату и легла лицом к окну, как всегда любила просыпаться, чтобы сразу увидеть солнце. К началу третьего дня ее не стало. Их нашла соседкавиолончелистка.
Сын ходил по знакомым — испитое, некогда прекрасное лицо, спутанные седые волосы — и повторял: «Я теперь сирота. Я сирота». И многим было его жалко.
Запах яблока
Рассказ
— Какие у тебя холодные пальчики, Лялечка! Мама сейчас поцелует, и они согреются. И одну ручку, и другую.
Хорошо, что еще не отключили горячую воду. Помылись мы с тобой чистенько, и я тебя одела во все новое, красивое. Тебе, правда, нравится? Это ничего, что платье немножко помнется, я или бабушка потом разгладим.
Я и сама чистенько оделась, хотя и не во все новое, как надо бы. Когда твой папа Герт приходил в последний раз, он сказал, чтобы я все старые платья выбросила, но я его не послушала в этот раз. Всегда слушалась — а тут нет, не смогла. Я в этом светлом платье с ним на свиданья ходила. Давно, еще дома. А потом ты родилась, Лялечка. И снизу все такое красивое на мне, с кружевами. Когда Герт вернется к нам, я рожу ему еще мальчика.
Нет, деточка, мы это платье тебе позже купили, когда я уже начала работать и получила первые деньги. Спасибо хозяйке квартиры: это она помогла с работой. Она, наверно, добрая женщина. Она тебя каждый день горячим кормила, пока я полы подметала в магазине, и денег много не брала за это. А там на полу уже с утра рыбьи хвосты, чешуя и головы с глазами. Вначале я боялась, что глаза эти смотрят на меня, но потом разглядела получше: на глазах у рыб пленка, и они меня не могут увидеть.
Я приходила с работы и сразу в душ — смыть запах рыбы. Хозяйка еще сердилась, что уходит много горячей воды. А ты, Лялечка, жаловалась, что запах все равно остается.
Даже деньги там пахли рыбьей чешуей, правда, платили они аккуратно. Я только все время пугалась, когда ко мне обращались: я ведь не понимаю почти ничего. Наш язык теплый, ласковый — он течет во рту. А в их языке слова будто острые осколки, их больно языком поворачивать. Не смогла я его выучить, как ни старалась. Каждый вечер открою учебник, который привезли из дома и все повторяю, повторяю. По нему твой папа Герт язык выучил (он очень способный). Я положу голову на страницу, где его рукой перевод написан, и чудится мне его запах. Часто так и засыпала у стола. Сколько раз ты меня будила и укладывала спать, когда я от усталости даже говорить не могла. Добрая ты у меня девочка, родная моя!
Твой папа, Лялечка, давно рвался уехать, а я никогда не хотела. Он думал, что в новой стране что-то в себе откроет необычайное. Пусть все у него получится — мы ведь ему уж больше не помеха, — но ведь так не бывает. Добрый не станет злым, разве только если его долго обижать, а злой не станет добрым. Ящерка шкурку сбрасывает и новую надевает, а внутри — все тот же зверек. Все мы носим в себе наше детство. Отгородишься от него новым именем, тяжелыми дверями или деньгами, а оно вдруг присядет рядом и спросит: «Ты зачем прячешься? Все равно ко мне вернешься».
Да-да, про платье, Лялечка. Было воскресенье. Мы купили тебе платье — ты в новом платье была такая красивая! — и вышли на набережную. Вспомнила? Мы там долго стояли. По морю шли большие корабли, один за другим. Некоторые шли в порт, а другие наоборот — уходили куда-то за горизонт. Я еще подумала, что когда-нибудь и мы с тобой поедем далеко-далеко, в разные интересные страны. Ты спрашиваешь, когда мы поедем? Теперь уже наверно никогда.
Мне здесь сразу не понравилось, Лялечка. Дома высокие, холодные, со странными запахами, а снаружи под окнами черные лестницы. Улицы длинные, но пешеходов нет. Из машин глядят люди, а глаза у них плоские, стеклянные, как у тех рыбьих голов.
Долгое время после приезда мне все снилось, что я летаю. Легко так, просторно. Теплый ветерок скользнет по ногам, по груди, когда я поднимаюсь, и прочь побежит. А мама будто стоит возле нашего дома и машет мне. И руки у нее все длиннее, все тянутся, чтобы меня поддержать, но я лечу все выше, и подо мной бежит сначала наш маленький город, потом река, а дальше дороги, леса. (Я не знала тогда, что мамы уже нет. Она тогда так просила не уезжать, не оставлять ее. Да разве ж я могла? Он же мой муж, отец моего ребенка. И мы уехали. А мамы скоро не стало: не дождалась она, пока я встану на ноги и вызову ее к себе.)
А Герт поутру все ворчал, что я ему руку сжимала и не давала спать. Может быть, он уже стыдился меня с моей привычкой есть много свежего хлеба, с простыми цветами в банках по всей квартире, с подушками из дома, которые я отказывалась сменить на здешние, мягкие как из ваты. Его, наверно, раздражали наши игры с тобой в дочки-матери и наши старые куклы, которых мы обе так любили с тобой. Даже когда я обнимала его, он любил меня нехотя, по привычке. Я даже думала, что от меня пахнет рыбой — потому! Ближе к концу года он стал пропадать по несколько дней и говорил, что работает на выезде, далеко за городом.
А перед Новым годом он совсем исчез, даже вещи свои вывез. Только плащ то ли оставил, то ли забыл. Наверно, просто оставил, ведь там карманы сильно потерлись от его привычки держать руки в карманах.
По ночам нам было очень страшно. Все казалось, что кто-нибудь поднимется по черной лестнице и нападет через окно. Мы с тобой, доченька, ставили банки с водой на подоконник — если кто полезет, банки разобьются; может, шума испугаются?
Знаешь, я всегда очень любила Новый год: такой чистый веселый праздник. Дома — снег, скользко, но мороз не сильный, и дышится легко. Все ходят из дома в дом, поздравляют друг друга: так и ночь проходит. А здесь в новогоднюю ночь шел липкий дождь, и в окне качался желтый свет фонаря. Если бы не ты, Лялечка, не звук твоего дыхания во сне, не прожить бы мне той ночи! Но как же я могла тебя оставить? Получается, что спасла ты меня тогда, дочка. А сегодня я тебя спасу и никому не отдам.
Я ведь тебе не рассказывала, что вскоре после той ночи все же нашла я Герта — видно, с отчаяния, — чтобы спросить, ждать ли мне его. А он только плечами так пожал, сел в машину и уехал. Больше я его уже не видела. Даже к тебе не приехал ни разу — наверно, не хотел со мной встречаться. А еще через несколько дней я работу потеряла.
Они мне что-то говорят, но я ведь не понимаю. И подметаю быстрее-быстрее — но от волнения все на одном месте. И гора чешуи, хвостов, рыбьих голов вокруг меня все выше. Ну, метлу у меня отняли, я сначала ладони не могла разжать. Денег сколькото дали и отправили. Я иду домой и радуюсь, что солнышко светит, что пойдем с тобой гулять. А потом уже слезы потекли.
В учебнике Герта был урок под названием «Рабочий день». Я составила и заучила выражение «Ищу любую работу». Из двери в дверь, из магазина в магазин я повторяла эти слова. С утра и до вечера, когда я возвращалась домой, чтобы немного побыть с тобой перед тем, как забыться сном. От усталости вечером мне всегда бывало холодно, и я прижималась к тебе во сне.
Ты помнишь тот день, когда ты простудилась, с кашлем и температурой? Я осталась с тобой, и мы провели вместе целый длинный прекрасный день. У нас было еще немного денег от благотворительной организации, которая когда-то помогла нам приехать сюда. Я побежала в аптеку, потом за молоком, а по дороге домой купила тебе несколько больших зеленых с красным яблок, которые пахли летом. Я рассказывала тебе, как в детстве лазила за яблоками на дерево и упала. В школу в седьмой класс я пришла в гипсе. Твой папа Герт еще дразнил меня, но не обидно.
Да, конечно. Он был старше меня на два класса. Мы с детства были знакомы.
Ты напилась горячего молока и уснула у меня на руках.
Последнее время хозяйка приходила с требованием денег за квартиру все чаще, но в тот вечер она не пришла. Но спасибо ей, девочку мою она каждый день кормила горячим, как и раньше. На следующее утро я опять ушла повторять «Любую работу» на пороге всех дверей, которые открывали мне.
А вчера они пришли втроем: хозяйка и с ней еще две. Одна такая, видимо, главная, вся в черном, ноги в черных чулках словно крючья. Губы тонкие, и глаза смотрят, как гвозди в меня остриями. А с ней переводчица, женщина постарше, прямо в рот этой главной смотрит. Я ее спрашиваю, что же мне делать? А она мне: «Это уж ваша проблема, уважаемая. Ребенка мы воспитаем за счет государства. Соберите, что можете, и через два дня мы придем за девочкой. Ваша хозяйка добрая: она разрешила вам еще два дня без оплаты».
И с тем они ушли.
В тот вечер мы не играли в дочки-матери. Наши куклы сидели у стены, смотрели на нас своими детскими глазами и, как и мы, с ужасом спрашивали, что же делать?
Ты заснула поздно. Я слушала твое тихое, как шорох шелка, дыхание и думала, что если бы меня сейчас вдруг не стало, я бы не увидела, как уводит мою дочь эта женщина в черном. Под утро я задремала, и сразу же ко мне пришла мама.
«Мама, ты видела? Они хотят забрать мою Лялечку».
«Да, отсюда я все вижу и слышу. И ты сможешь ее отдать?»
«Нет, никогда, никогда».
«Тогда ты знаешь, что надо делать», — сказала мама.
«Нам идти к тебе?»
Мама повернулась и исчезла.
Сейчас мы совсем одни на целом свете. Не знаю, слышишь ли ты меня еще. Я обниму тебя покрепче, Лялечка, и мы полетим далеко-далеко, прочь от этих черных домов и людей. Даже дальше, чем те корабли, на которых мы не успели поплавать.
Господи, пожалей мое дитя! Защити ее, чтобы она не испугалась одна. Отведи ее скорей к моей маме, пока я приду к ней.
Наутро потеплело. Дневное солнце было ярким. На подоконнике лежало надкушенное яблоко. Когда дверь открыли, в комнате было пусто и пахло теплым яблочным соком. Больше ничем.