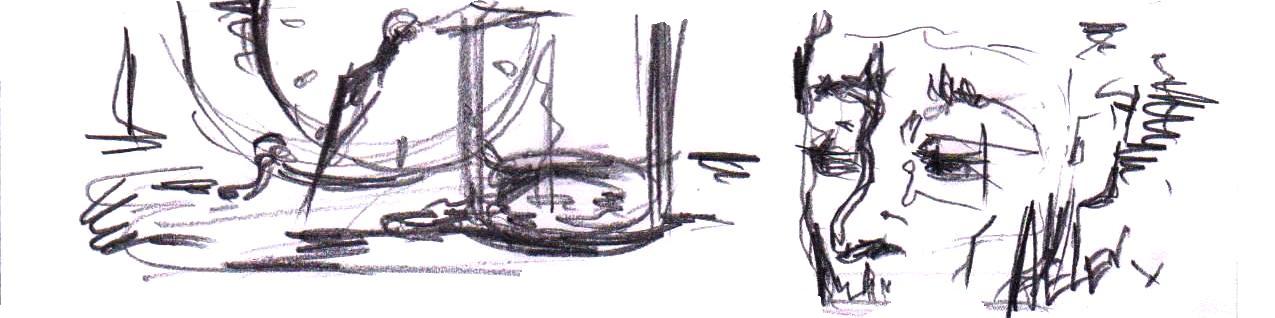Рассказ
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 39, 2013
Борис Буянов
ПРО ВИТЮ ТАРАКАНОВА
Рассказ
Витя Тараканов был единственным ребенком в семье. То есть у него были папа и мама, а также бабушка. Жили они все вместе сначала в Бирюлеве, на окраине Москвы, а потом переехали на улицу Надежды Константиновны Крупской, поближе к центру и университету, так как мама Вити в нем преподавала. Папа в университете не преподавал, поэтому родители скоро развелись, продолжая жить в одной квартире, так как разъехаться не было возможности, а может быть, они и не хотели. Чтобы проживать как-нибудь все-таки раздельно, они перегородили одну комнату, из которой получилось две, правда, одна оказалась проходной. Исключительно справедливости ради они решили меняться комнатами – один месяц в проходной комнате жил папа, а другой – мама. Мебелью они решили каждый месяц не меняться, а считать себя как бы в командировке, на том и поладили, и получалось у них это разведенное проживание довольно-таки удачно, по крайней мере со стороны так выглядело.
В квартире было еще две комнаты, одну из которых занимала бабушка, а другую – Витя. Отдельная комната бабушке была нужна непременно, потому что она хотя уже и была пенсионеркой, но продолжала работать надомницей, то есть шила у себя в комнате меховые шляпы артистам известным и не очень известным, но в основном все-таки известным, коих тропа к бабушке не зарастала, видимо, хорошо бабушка шляпы шила, иначе этот факт не объяснить.
Вите тоже нужна была отдельная комната, поскольку к тому времени он уже вырос и учился в университете, правда не на том факультете, где преподавала его мать, а совсем на другом.
Витя носил фамилию матери, потому что фамилия эта была довольно-таки родовитой, от самой княжны Таракановой происходившая, а фамилия папы была нисколько не родовитой, а даже совсем наоборот. Фамилию отца Вити никто не знал, потому что ее Витя никому не говорил, вполне возможно из-за того, что он сам ее не знал, а может быть, по другой какой причине. Отчество свое он, правда, знал, но нигде не афишировал, считая его неказистым.
Маму и бабушку Витя любил, а отца ненавидел. Причем ненавидел исключительно из-за постоянной дискуссии о курице и котлетах. Отец Вити считал, что котлеты вкуснее курицы, потому что ими можно быстрее наесться, а курицей – нет. Витя же считал совсем наоборот, то есть курица для него была гораздо вкуснее котлет, но так как отца он в этом вопросе переспорить не мог, то стал его просто ненавидеть. Родовитые родственники Вити по материнской линии считали эту ненависть вполне справедливой, потому что тоже считали, что курица вкуснее котлет, а отнюдь не наоборот, но одобряли Витю чисто внутренне, в спор никогда не вмешиваясь, да и как они могли вмешаться, если ни они к Вите с отцом, ни отец с Витей к ним в гости не ходили и по телефону друг с другом не разговаривали.
Еще в квартире жила кошка, с которой у Вити было взаимное обожание. Со стороны Вити это обожание заключалось в том, что он кошку постоянно гладил, когда у него, естественно, была такая возможность. Обожание же со стороны кошки заключалось в том, что первую пойманную ночью мышь она никогда не ела, а, придушив, осторожно клала на подушку рядом со спящим Витей. Каждый раз, проснувшись и увидя рядом с собой на подушке дохлую мышь, Витя громко вскрикивал, так как мышей ужасно боялся, а дохлых – тем более. Для остальных членов семьи это громкое вскрикивание Вити было сигналом того, что Витя уже проснулся и можно подавать завтрак.
Однажды на книжном развале Витя купил штук пятьдесят книг на датском языке, которые сразу же поставил на книжную полку, мечтая когда-нибудь выучить датский язык и уехать в Данию, хотя бы из-за того, что в Дании можно жить без отчества и никого не волнует, неказистое оно или наоборот. Если бы ему удалось купить книги на норвежском языке, то он бы стал мечтать уехать в Норвегию, где, кстати, тоже без отчества можно жить, но так как книги на норвежском нигде не продавались или во всяком случае ему не попадались, то уехать в Норвегию он даже не начинал мечтать, потому что знал, что в данной ситуации это бесполезно.
Датский язык Витя выучить мечтал, но не учил. Это так часто бывает, когда мечтаешь что-нибудь сделать, но не делаешь, потому что мечтать значительно проще и приятнее, чем претворять мечты в жизнь. Бывает, конечно, наоборот, но это больше исключение, чем правило. А Витя, оказывается, исключением из правил не был, хоть и хотел.
Когда Витя закончил университет, он пошел работать, а родители его к тому времени вышли на пенсию. Каждый вечер они вместе с бабушкой и кошкой с нетерпением ждали Витю с работы, чтобы он им что-нибудь рассказал. Он же им рассказывать ничего не хотел, потому что рассказывать было в сущности не о чем, да и на работе он наговаривался вдосталь. Приходя с работы, он сразу же уединялся в своей комнате с книгами на датском языке. Через пять минут раздавался робкий стук, дверь открывалась и входила бабушка с тарелкой, налитой до краев щами зелеными. Их Витя любил, а так как бабушка об этом знала, то она их ему каждый день и готовила. Поев щей зеленых, Витя слегка добрел, но все равно ничего бабушке не рассказывал, и она, пару раз повздыхав, удалялась из его комнаты в свою, где на стенах висели большие портреты ее родовитых предков, которых Витя никогда не видел, но кое-что иногда про них слышал. Некоторые из них погибли в гражданскую войну, поскольку воевали в основном на стороне белых. Тут Витя немного злорадствовал, так как считал, что воевать надо было исключительно на стороне красных, тогда, может быть, они бы в гражданскую и не погибли, а погибли бы гораздо позже. В том, что они рано или поздно бы погибли, Витя не сомневался, поскольку считал себя фаталистом, да в сущности и был таковым.
Наибольшим почетом в сознании Вити пользовалась его прабабушка, владевшая во времена царизма в Москве целой улицей, то есть не улицей, конечно, а всеми домами, которые на ней были. Конечно, это была не улица Горького, хотя бы потому, что тогда этой улицы еще не было, нет, конечно, улица была, только называлась не улицей Горького, а Тверской, но и Тверской она не владела, потому что это было бы, по словам Вити, слишком круто. Так вот, владела она зданиями на этой улице, а потом, когда царизм кончился и настали новые времена, то ее уплотнили, то есть, сказав ей, что это все теперь не ее, разрешили ей жить в одной из комнат одного из ее бывших домов, за которую она должна была платить государству квартплату, поскольку и эта комната уже была не ее, а отошла государству – государство ей эту комнату сдавало и требовало за ее сдачу денег. Так и жила она в этой комнате без всякой надежды на будущее, потому что в будущем ей ничего не обещали. По словам же Вити со слов его бабушки, эту ситуацию прабабушка воспринимала вполне спокойно и даже радовалась, считая, что теперь есть где жить всем, хотя как-то странно получается: выходит, что когда она владела домами на одной из улиц Москвы, то в них никто не жил, что ли, а может, и жил кто, но не все, в смысле, не столько народу, как потом (видимо, потому столько народу у нее не жило, что она не мыслила государственно, а вот когда государство стало владеть всеми домами, то оно, государство, стало мыслить вполне государственно, для этого-то государство и существует, чтобы государственно мыслить).
Историю про свою родовитую прабабушку Витя рассказывал всем, причем с превеликим удовольствием, отлично зная, что никто ничем подобным похвастаться не может.
Работать Вите не нравилось, потому что приходилось рано вставать, а он любил поспать, поэтому в выходные дни он спал до обеда, а то и до после обеда. В это время и родители, и бабушка ходили по квартире исключительно на цыпочках и общались между собой исключительно жестами.
Жить с родителями и с бабушкой в одной квартире Вите тоже не нравилось, несмотря на то, что в квартире был мусоропровод и мусор выносить было не надо. А не нравилось ему жить с ними потому, что они всегда были дома, когда бы он ни приходил, и это его очень раздражало. Но поскольку Витя был молчалив, то он свое раздражение никому не показывал, а держал все в себе, что ему не очень нравилось, поэтому он по возможности разряжался выпивкой с кем-нибудь.
Этим кем-нибудь был, как правило, поэт Макаронов, с которым Витя познакомился во время учебы в университете. Макаронов в то время учился в библиотечном институте, а познакомились они на свадьбе троюродного брата Макаронова, бывшего в то время однокурсником Вити. Свадьба проходила в подмосковных Подлипках, откуда была невеста, сначала в местном ресторане, а потом в чьей-то двухкомнатной квартире без мусоропровода, о чем Витя очень сокрушался и недоумевал, как так, дескать, могут люди жить. Макаронов по этому поводу не недоумевал, потому что сам жил в подобной двухкомнатной квартире вместе с родителями и сестрой в подмосковных Химках.
Когда все наконец утихомирились, Витя с Макароновым уединились в кухне – Витя, естественно, недоумевая, а Макаронов, естественно, нет. Макаронов уже был тогда начинающим поэтом, поэтому ему всегда нужна была публика, чтобы он ей мог прочитать свои стихи, а Вите уже тогда нужна была интеллектуальная компания, поскольку своих родителей и бабушку он интеллектуалами не считал.
С Макароновым было интересно – он читал свои стихи, а Витя его стихи слушал. Макаронов мог читать стихи бесконечно, а Витя мог их бесконечно слушать. Макаронов писал исключительно верлибры, то есть стихи, которые и стихами-то трудно назвать, но почему-то называют. Читал он стихи хорошо: про вытянутые в больницах лица, как на портретах Модильяни, про телефон, по которому можно позвонить в Неаполь или в Магадан, про Петра Первого, который не успел прорубить в Европу дверь, про собачку, которая хочет повеситься, но не умеет… Особенно Вите нравилось про эмигранта, который “водку пьет взахлеб и напряженно морщит лоб”. Иногда ему казалось, что встречается он с Макароновым исключительно из-за этого стихотворения.
Постепенно Макаронов стал считать себя поэтом-минималистом, стихи его становились все короче и короче, появились публикации. В принципе, Макаронов стремился к написанию настолько коротких стихов, чтобы они состояли из пустоты. Но этого достичь ему никак не удавалось. Самое короткое было: “так-то оно так, так как-то”, а дальше никак не шло. По этому поводу Макаронов очень мучился, частенько они с Витей обсуждали эту насущную проблему за очередной рюмкой, запершись в комнате с книгами на датском языке, поскольку жилищные условия у Макаронова оставались прежними и уединиться у него было негде. Родители Вити и бабушка с пониманием относились к творческому процессу, периодически внося в комнату Вити различные закуски. И Макаронов, и Витя принимали это внимание как должное, так как в такие моменты считали себя творцом и критиком.
С какого-то момента неудачу минимизировать стихи до пустоты Макаронов стал связывать с тем, что есть, оказывается, еще один поэт Макаронов, в этом-то, видимо, все и дело. Тогда Макаронов решил взять себе псевдоним, чтобы его не путали с тезкой, и присоединил к фамилии отца, на которой он, в отличие от Вити числился, фамилию матери. А так как фамилия матери была Краткова, то и стал он Макароновым-Кратковым, известным впоследствии поэтом (супер)-минималистом. (А может быть, Кратковым он стал потому, что писал кратко, а про фамилию матери просто наврал – поди, там, проверь…) Но и даже после этого минимизировать свою поэзию до пустоты ему так и не удалось. Легче, видимо, перпетуум-мобиле изобрести.
А Витя все слушал и слушал… А затем наступал момент, без которого никогда не обходилось: на посошок, и, давай-ка, Макароныч, про эмигранта… И вот опять про водку взахлеб и про лоб напряженный… Без этого не расходились.
Водку Витя не любил, но пил, чтобы повеселеть и посмелее быть, а то без водки жизнь какая-то серая была и скучная, а с водкой – наоборот, пестрая и веселая. А не любил Витя водку потому, что она была горькая и противная.
А без водки – что? Без водки он даже стеснялся позвонить известной правозащитнице Калерии Старопалисадской, с которой он где-то случайно познакомился. А с водкой – звонил, и они часами могли очень мило беседовать: Старопалисадская отвлекалась на время от насущных правозащитных забот, а Витя просто млел от сопричастности к происходящей на его глазах истории. Говорили они, как правило, о том о сем, а именно: ни о чем, то есть о быте.
Конец их отношениям положил Макаронов-Кратков, серьезно приревновав Витю к Старопалисадской. Улучшив момент, когда Витя отлучился в туалет, он позвонил Старопалисадской, сказал, что он известный поэт Макаронов-Кратков и по совместительству лучший друг самого Виктора Тараканова, а посему убедительно просит известную правозащитницу больше Виктора ни под каким соусом не домогаться, поскольку другие претендентки имеются, может быть, не такие уж известные, но зато и не такие уж в возрасте и что ей должно быть наверняка стыдно примазываться к благородному древу Таракановых. Все это было высказано Макароновым-Кратковым с обильным применением нецензурных выражений, на что Калерия только что и успела спросить, не хулиган ли звонящий, и, получив утвердительный ответ от разбушевавшегося поэта, повесила трубку. Макаронов-Кратков, разумеется, вернувшемуся из туалета Вите ничего не сказал, а на последующие звонки Вити Старопалисадская хоть и реагировала, но общаться категорически отказывалась, ссылаясь на безмерную занятость, так что ничего больше Вите не оставалось, чем общаться исключительно с Макароновым-Кратковым, каждый раз получая в награду за общение стихи про водку и про напряженный лоб эмигранта.
После окончания библиотечного института Макаронов нигде не работал, то есть он пытался где-нибудь работать, но у него никак не получалось, потому что он любил писать верлибры, а это никак с работой не совмещалось. Некоторые его верлибры где-нибудь печатали, но денег за них не платили. Чтобы как-то свести концы с концами, он ходил по друзьям и знакомым, читал им свои стихи, они его поили-кормили и иногда даже спать укладывали. А так как из друзей и знакомых у него был один лишь Витя, то Макаронов ходил читать стихи ему. Иногда в качестве слушателя стихов Макаронова к Вите присоединялась бабушка. Слушала стихи она очень внимательно, а однажды спросила молодых людей (хотя ей этого делать абсолютно не следовало), знают ли они, кто написал строки “Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить”? Молодые люди ни этих стихов, ни тем более автора не знали, потому что в школе они этого не проходили, да и не верлибры это вовсе, а если не верлибры, то чего же их и знать-то… Таков приблизительно был ответ бабушке, несмотря на то что она отнюдь не была Чемберленом. Бабушка задумалась. Тогда Витя, разъярившись, спросил с ехидцей, а знает ли она, бабулечка, состав группы “Битлз”, а если не знает, то пусть не строит из себя интеллектуалку, а поскорее убирается из его комнаты, и, не дав бабушке опомниться, тут же быстро перечислил:
Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Бабушка этих имен не знала, поэтому быстренько ретировалась и больше для участия в интеллектуальных беседах в комнату внука не заходила.А потом Макаронову скитаться надоело, и он решил жениться. Сначала он решил жениться на Хайке из ГДР, с которой где-то познакомился и сразу в нее влюбился, но она этого не поняла, поскольку не владела русским, а он не владел немецким. Несмотря на это, Макаронов методично и целенаправленно посылал ей в ГДР свои верлибры в авторском исполнении на кассетах, но так как никакой реакции от Хайке из ГДР никогда не следовало, то жениться на ней Макаронов передумал и женился на Стелле из Нижнего Новгорода. Стелла была поэтесса и жила одна с маленькой дочерью. Переехав к Макаронову в Москву, Стелла сразу начала где-то работать, потому что надо было чем-то кормить и Макаронова, и маленькую дочь. Стихи писать при этом она совершенно забросила, потому что верлибры на дух не переносила, а в присутствии Макаронова ничего другого писать было невозможно. Макаронова она кормила при одном условии – чем меньше стих, тем меньше еды. Так что пришлось Макаронову от своего намерения довести поэзию до пустоты отступить, временно, естественно, как он считал. И начал Макаронов постепенно увеличивать объемы, наполняя каждую строчку буквами от начала до конца, незаметно и к удивлению для самого себя переходя к поэмам и даже эпосу. В результате его совсем перестали печатать, так как никакой бумаги на него было уже не напастись.
Тогда Макаронов загоревал, пришел к Вите и прочитал ему минималистское: “Будильник, будильник, сколько мне еще жить?” Вите понравилось, и они выпили. Потом они выпили еще, а затем Макаронов прочитал традиционно про эмигранта с напряженным лбом. После этого выпили еще и Макаронов лег спать. Что с ним стало потом, никто толком не знает.
А Вите такая жизнь надоела полностью и окончательно. К тому же сорвалась его попытка во время Августовского путча уехать в Данию и остаться там, попросив политического убежища, поскольку путч закончился неожиданно быстро и Витя уехать в Данию просто не успел, так как его очередь менять валюту подошла уже после окончания путча. О том, что путч продлился так недолго, Витя откровенно сожалел, но своего откровения никому не показывал, ибо быстро понял, что пропутчистские настроения в послепутчевом обществе не поощрялись, а наоборот, можно было запросто получить по морде, чего Витя никак не желал, потому что боли боялся с детства. Так что одно ему пока оставалось – рассматривать у себя в комнате корешки книг на датском языке. А отселиться от родителей с бабушкой уж очень хотелось, но возможностей не было, поэтому надо было думать, хорошо думать: думай, Тараканов, думай! И Витя думал.
Как говорится, если хорошо думаешь, то обязательно чего-нибудь придумаешь. Получалось так, что просто выселиться из квартиры Витя не мог, потому что не было куда. А вот если жениться…. Тогда – запросто. Тогда родители молодым и квартиру снимут, и платить за нее будут. Поэтому надо было срочно жениться. А на ком? А на том, кто в таком же положении, что и Витя, только женского полу. Поэтому, говорил себе Витя, надо срочно перестать пить, временно, конечно, а вместо этого активизироваться и искать, искать, искать.
Нашел Ленку. Как нашел – определенно сказать трудно, через кого-то пятого-десятого, в общем, нашел и все тут. Ленка была дочерью художника и внучкой художника, и даже правнучкой художника, вполне возможно, что и праправнучкой. Художники были в своей сфере известные, а вне своей сферы – нет. К моменту знакомства с Витей Ленке настолько обрыдло смотреть на все эти картины, что ее от этого элементарно рвало, а все почему-то думали, что она беременная, хотя, конечно, одно другое не исключало, но в данном случае было абсолютно не так: рвало ее исключительно из-за картин, причем всяких-разных, рвало от разговоров о картинах и вообще о живописи, рвало от красок, палитр и даже от одних только упоминаний фамилий художников, известных в своей сфере и не известных вне ее. Хотела она даже как-то по этому поводу удавиться, но потом, подумав, решила, что лучше все-таки замуж, с отселением, разумеется, ну и попутно прибарахлиться в салоне для новобрачных. Так что сошлось у Вити с Ленкой тютелька в тютельку, как у горы с Магомедом или что-нибудь тому подобное.
Как же они радовались, что нашли друг друга! Чтобы не терять зря времени – пулей в ЗАГС подавать заявление, затем – в салон, туда-сюда – тут и время регистрации подошло, да и отметить событие надо было как-то посолиднее, так уж родственники решили. Сняли зал в гостинице “Советской”, там, где театр “Ромэн” (троюродная сестра Вити наполовину цыганкой была, она-то зал и устроила). Народу набралось много – народ свадьбы отмечать любил, тем более, если цыгане под боком. Ели-пили, ели-пили, а потом пили-ели, но все больше пили. Витя даже стихи умудрился прочитать – макароновские, те, которые наизусть помнил, разумеется: и про эмигранта, конечно, – без эмигранта какая же свадьба! Родственники со стороны жены пытались молодоженам пару картин (подлинники!) подарить, но этот номер у них не прошел, потому что Ленка внезапно сделалась белой как смерть, и все испугались, что она умрет. Особенно Витя испугался, потому что в этом случае пришлось бы ему возвращаться к живущим в разным комнатах и постоянно этими комнатами меняющимся разведенным родителям, а также к бабушке со всей этой артистической сворой в виде заказчиков, поэтому Вите тоже пришлось сделаться белым как смерть, так, на всякий случай, в результате чего родственники со стороны жены дарить картины передумали, а подарили импортную хрустальную вазу, чему Ленка с Витей несказанно обрадовались: Ленка – потому что не картины, а Витя – за компанию, а обрадовавшись, они сразу умирать передумали, отчего всем сразу стало сплошное веселье до упаду. А как все упали, так молодожены сразу же и поехали в отдаленный район, где им уже родители успели снять однокомнатную квартиру со всеми удобствами.
“Поживу годик и разведусь, – подумал Витя, – а там – будет, как будет”, – и через год развелся. О чем думала Ленка – неизвестно, видимо, о том же, поскольку через год тоже развелась. А пока они жили вместе, то вечерами Витя предпочитал ходить к отцу Ленки, известному, как уже говорилось, в своей сфере художнику и неизвестному за ее пределами. С тестем он любил выпить, потому что тесть ему всегда наливал, а наливал он ему всегда потому, что надо ему было кому-нибудь показать свои картины, а так как Витя на трезвую голову по достоинству картины оценить не мог, то он ему и наливал, причем, чем больше он ему наливал, тем больше по достоинству Витя оценивал его картины, принося радость художнику: в этот момент тесть всегда порывался подбежать к холсту и рисовать, рисовать, рисовать, но подбежать к холсту он в этот момент не мог, поскольку ему надо было постоянно Вите наливать, чтобы он оценил картины еще достойнее, что на самом деле и происходило. Часто после этого Витя оставался у тестя ночевать, отправляясь утром от него прямо на работу и заезжая к нему после работы вечером. Посему на съемной квартире он бывал довольно-таки редко, потому что с Ленкой ему было скучно, а с тестем – совсем наоборот. “Вот бы мне такого отца! – часто признавался Витя тестю в любви – Вот какой вы все-таки замечательный человек – ни разу про котлеты не заговорили! Как же я вас люблю!” После этого не налить Вите было бы бесстыдством высшей категории, а поскольку тесть себя бесстыдником не считал, то и наливал вовсю и Вите, и себе, так как Витя пить в одиночку категорически отказывался. “Мечтаю, тестюшка, чтобы нарисовал ты картину-портрет, но не мой, а эмигранта, как он водку взахлеб пьет и лоб напряженно морщит. Сможешь?” – “Смогу!” – отвечал художник, потому что в такие минуты ему казалось, что он сможет все.
Тёща никогда в эти разговоры не встревала, так как художницей не была, но жизнь художников понимала вполне, поэтому-то и не встревала, чтобы не помешать полету таланта, а вдруг именно в этот момент муза и объявится! Но обычно муза объявлялась почему-то в отсутствие Вити – тогда портрет очередного передовика производства выходил как по заказу, за который хорошо платили. Поэтому-то вечерами так славно наливалось и выпивалось, и мечталось нарисовать не очередного передовика очередного производства, а хлещущего взахлеб водку эмигранта с напряженным лбом. Тесть даже этот лоб уже столько раз так явно видел – каждую морщину в отдельности. Но это вечером, а утром – Витя на работу, а художник – рисовать передовиков производства: гладких, без морщин, непьющих – не в смысле “совсем”, а в смысле “ничего”.
Ленка за это время в однокомнатной квартире в отдаленном районе совсем освоилась: днем она спала до обеда, то есть до своего обеда – каждый день приходила мама, будила ее и подавала на стол то, что принесла, потом мама мыла посуду и уходила, оставив Ленке что-нибудь на ужин. Затем Ленка включала телевизор и под него что-нибудь вязала, например свитер или шапку или что-нибудь обвязывала, например ножки стульев, табуреток или стола. Так проходили дни. Иногда позванивал Витя, иногда он даже забегал – по дороге к тестю: они быстренько пили кофе, и Витя быстренько убегал. Отец Ленки заехал всего лишь один раз – сыграл на пианино, оставленном хозяином квартиры или прежними жильцами, Собачий вальс, затем вальс “Амурские волны” или “Дунайские волны” – он и сам толком не знал, затем захлопнул крышку, вздохнул, посетовав, что больше играть ничего не умеет, поцеловал Ленку в лоб и уехал к себе домой, где его, как всегда, ждал Витя с рассказами под водку о морщинистом лбе эмигранта.
Так продолжалось ровно год, потому что ровно через год и Витя, и Ленка друг с другом развелись – не развестись они не могли, поскольку год назад так решили, а нарушить слово – значит потерять лицо, а потерять лицо никто из них обоих не хотел, потому что, как им тогда казалось, потерять лицо можно быстро, а чтобы потерянное лицо найти, нужно долго искать, а можно и вообще не найти, а без лица – жизнь безликая, именно потому, что без лица. А безликой жизни им не хотелось, причем, как одному, так и другой.
Разведясь, Ленка поехала к своим родителям, а Витя – к своим, да еще к бабушке и кошке. Приехав к ним, он сначала с ними поздоровался, а затем съел сразу три тарелки щей зеленых, после чего в животе у него потеплело, и он стал рассматривать корешки книг на датском языке, потому что давно их не видел. При этом он гладил кошку, потому что давно ее не гладил. На следующее утро, проснувшись и увидя рядом на подушке дохлую мышь, Витя громко закричал. Из кухни начал раздаваться звон посуды и шум чайника.
Так проходил день за днем: утром Витя уходил на работу, а вечером с нее приходил, натыкаясь сразу на три пары молчаливых глаз, которые, видимо, хотели что-то спросить, да не могли, поскольку разговаривать не умели. Вообще, это общеизвестный факт, что глаза разговаривать не умеют, ну, если только образно. Но это в данном случае не считается. Витя этим глазам ничего не говорил – не потому, что не хотел, а потому, что нечего было сказать, – так и проходил молча в свою комнату, где его встречала кошка, которую он начинал усердно гладить.
И опять скучно ему стало, к тому же ни Макаронова тебе, который Кратков, ни Старопалисадской, которая Старопалисадская. И начал Витя грустить. А как грустить ему надоело, то он подумал, что опять надо жениться. Но на этот раз искать жену через кого-то ему не хотелось, потому как хлопотно это было и суетно, а он такие вещи не любил, поэтому решил он жену не искать, думая, что найдется она как-нибудь сама, поскольку был фаталистом.
И вот однажды вечером, разругавшись с родителями и бабушкой из-за чего-то (с отцом – понятно из-за чего – из-за курицы и котлет – из-за чего же еще, а с остальными, из-за чего-нибудь другого, а может быть, просто так), Витя крепко выпил и поехал кататься в московском метрополитене. В московском метрополитене он любил кататься с детства, горделиво осознавая при этом, что он – москвич.
Сначала Витя доехал до кольцевой линии, а потом на нее пересел и стал кататься на ней дальше, уже без пересадки – кольцевая линия тем и хороша, что на ней без пересадки кататься можно, причем количеством накатанных колец тебя никто не ограничивает.
На последнем кольце, уже перед закрытием метрополитена, Вите вдруг стало плохо – он сначала побледнел, а затем покраснел, затем опять побледнел, а затем опять покраснел и так много раз подряд. Трудно сказать, отчего ему плохо стало, – то ли из-за долгого катания под землей без свежего воздуха, а то ли от выпитого объема, а может быть, и из-за того и от другого. Тут он краем глаза увидел, что напротив него сидит девушка – симпатичная… Тут Витя, несмотря на то что ему плохо было, и подумал, что если она пересядет на ту же линию, что и он, а потом еще вдобавок выйдет на той же станции, что и он, то он с ней познакомится, а если не пересядет и не выйдет, то и… ладно с ней (на самом деле он не “ладно”, а другое какое-то слово подумал, но это, в принципе, не важно). На его счастье, девушка и пересела там, где и Витя, и вышла там же, где и он. Вообще-то ей надо было дальше ехать, просто в этот день решила она к подруге зайти, но к подруге зайти она не успела, потому что Витя тут же с ней и познакомился, не отказался провести время у нее до утра, а потом они поженились.
Вторую жену Вити звали Галина. Она тут же не понравилась маме Вити, а остальным понравилась. А маме Вити она не понравилась по двум причинам. Во-первых, маму Вити тоже звали Галиной, поэтому она упорно называла Галину, жену Вити, не Галиной, а Галей, так как считала, вспомнив неожиданно свою биографию, что до Галины эта пигалица еще не доросла, а во-вторых, вторая жена Вити была по профессии дипломированным астрологом и к тому времени уже успела выпустить несколько книг на болгарском языке, хотя болгарского языка не знала. Этих успехов Галина, мама Вити, Галины, жены Вити, в упор не замечала и называла жену своего сына не только Галей, но и еще шарлатанкой, иногда, правда, дипломированной.
Галина, жена Вити, тоже невзлюбила Галину, маму Вити, – во-первых, из-за того, что считала себя достаточно взрослой и самостоятельной для того, чтобы ее называли Галей, а во-вторых, из-за курицы.
Дело в том, что Галина, мама Вити, готовила курицу слегка недожаренной, и она получалась сочной, что очень Вите нравилось. Галина же, жена Вити, прожаривала курицу основательно, считая, что недожаренная курица, во-первых, может вызвать сальмонеллез, а во-вторых, – невкусная. Витя же, наоборот, считал, что сухая и невкусная именно курица, приготовленная женой, а не мамой.
По поводу приготовления курицы Витя с женой часто ссорились. Эти ссоры заканчивались одним и тем же: Галина-жена прогоняла Витю к Галине-маме, чтобы, дескать, он вкусную ему курицу ел там, у мамы, а не здесь, у нее. Перед тем как Витю прогнать, она неизменно желала и Вите, и тем более его маме благополучно отравиться этой, приготовленной мамой, курицей. Но ее пожелание почему-то никогда не сбывалось. Этому прогонянию Витя никогда не препятствовал. Во-первых, потому что жили они в однокомнатной квартире Галины-жены, которая у нее к тому времени была, а, как известно, хозяин – барин, а во-вторых, потому что курица Галины-мамы была для Вити все-таки вкуснее курицы Галины-жены. А латынь никто из них не знал.
Вскоре Галине, жене Вити, в своей однокомнатной квартире жить вместе с Витей надоело, так как она была жаворонком, а он – совой. Совизм Галина ненавидела, потому что когда-то совой была сама, но потом перестроилась. А перестроившись, считала всех сов ненормальными, никчемными людьми, ничего в жизни не достигающими и не способными ничего достигнуть. Так часто бывает, что, отказавшись от своего прошлого, человек начинает люто ненавидеть приверженца этого самого прошлого как досадное напоминание о себе, от которого, казалось бы, давно уже убежал, ан нет! Но, несмотря на все эти разногласия, разводиться с Витей Галина не собиралась. Она была человеком опытным и уже не юной, поэтому и считала, что, разведясь, вряд ли уже с кем-нибудь сойдется на почве брака, а на другой почве ей сходиться не хотелось, потому что другая почва, в отличие от почвы брака, была нестабильной, да и за границу с такой нестабильной почвой не уедешь. А за границу она уехать хотела всегда, о чем постоянно и жужжала, и долбила Вите. “Давай-ка, Витя, завербуйся-ка ты работать за границу в качестве специалиста, а я там, за границей, книжки по астрологии писать буду в спокойствии, а то Москва – город суетливый, да и мамочка тут твоя разлюбезная со своей недожаренной курицей….” На что ей Витя непременно отвечал, что курица у мамы вполне дожаренная, после чего они непременно скандалили и Витю тут же выгоняли к маме есть по одним понятиям дожаренную, а по другим понятиям недожаренную курицу. А посему уехать за границу у них никак не получалось, хотя и Вите, и его жене Галине этого очень хотелось.
Но вот однажды, когда Галина, мама Вити, серьезно заболела и ее положили в больницу, выгонять Витю есть недожаренную курицу стало некуда, поэтому Витя быстренько завербовался в качестве специалиста за границу и туда со своей второй женой быстренько уехал, пока его маму еще не выписали из больницы.
За границей Витя с женой жил в двухкомнатной квартире в комплексе иностранных специалистов. Это было большой удачей, так как теперь Галина после ужина хорошо прожаренной курицей, отправлялась в свою комнату спать, чтобы, встав рано утром, писать свои книги по астрологии. Витя же после ужина пережаренной курицей отправлялся в свою комнату смотреть до поздней ночи телевизор, чтобы, встав утром не так уж рано, идти работать иностранным специалистом за границей.
Жить за границей им нравилось, и возвращаться в Москву они никак не хотели, со страхом думая, что когда-нибудь их из-за границы отзовут и пришлют им замену. Этот страх висел все время над ними как дамоклов меч, поэтому они боялись заводить детей, так как не знали, каким образом их растить в московских условиях, считая, что их самих, выросших в этих самых московских условиях, вырастили совершенно неправильно, поскольку правильно вырастить детей в Москве невозможно, и с этим ничего не поделаешь. В этой позиции они всегда были едины друг с другом. Да и детей, кстати, не любили, а друг друга просто ненавидели, видимо потому, что своим присутствием напоминали друг другу о своем прошлом, которое оба тоже не любили. Но удивительно, заграничную командировку им почему-то все продлевали и продлевали, наверное, потому, что статус работающего за рубежом в стране резко упал: повальный дефицит закончился, а зарабатывать большие деньги стало возможным и в стране, тем более что это было комфортнее и приятнее. Тем не менее Витя с Галиной возвращаться на родину не спешили, боясь, что их там где-нибудь в подворотне убьют.
Так прошли годы. За это время умерла сначала бабушка Вити, а вскоре и его отец. Мама Вити осталась с кошкой в Москве в большой четырехкомнатной квартире. Иногда она приезжала за границу в гости к Вите. Тогда жена Вити собирала чемодан и срочно улетала в Болгарию на очередной симпозиум астрологов. Во время отсутствия жены мама готовила курицу как надо и Витя ею наслаждался.
А потом мама приезжать перестала, сначала потому, что кошка заболела диабетом и ее нужно было лечить, затем потому, что кошка умерла и мама никак не решалась сказать об этом Вите, а затем потому, что умерла она сама, в связи с чем жена Вити перестала летать на симпозиумы, но по-прежнему уединялась в своей комнате, в которой продолжала писать книги по астрологии, а Витя продолжал работать иностранным специалистом, с годами ощущая дамоклов меч все больше и больше.
Так они, наверное, до сих пор и живут, если, конечно, их все-таки не отозвали или они не умерли, потому что времени с тех пор прошло очень много.