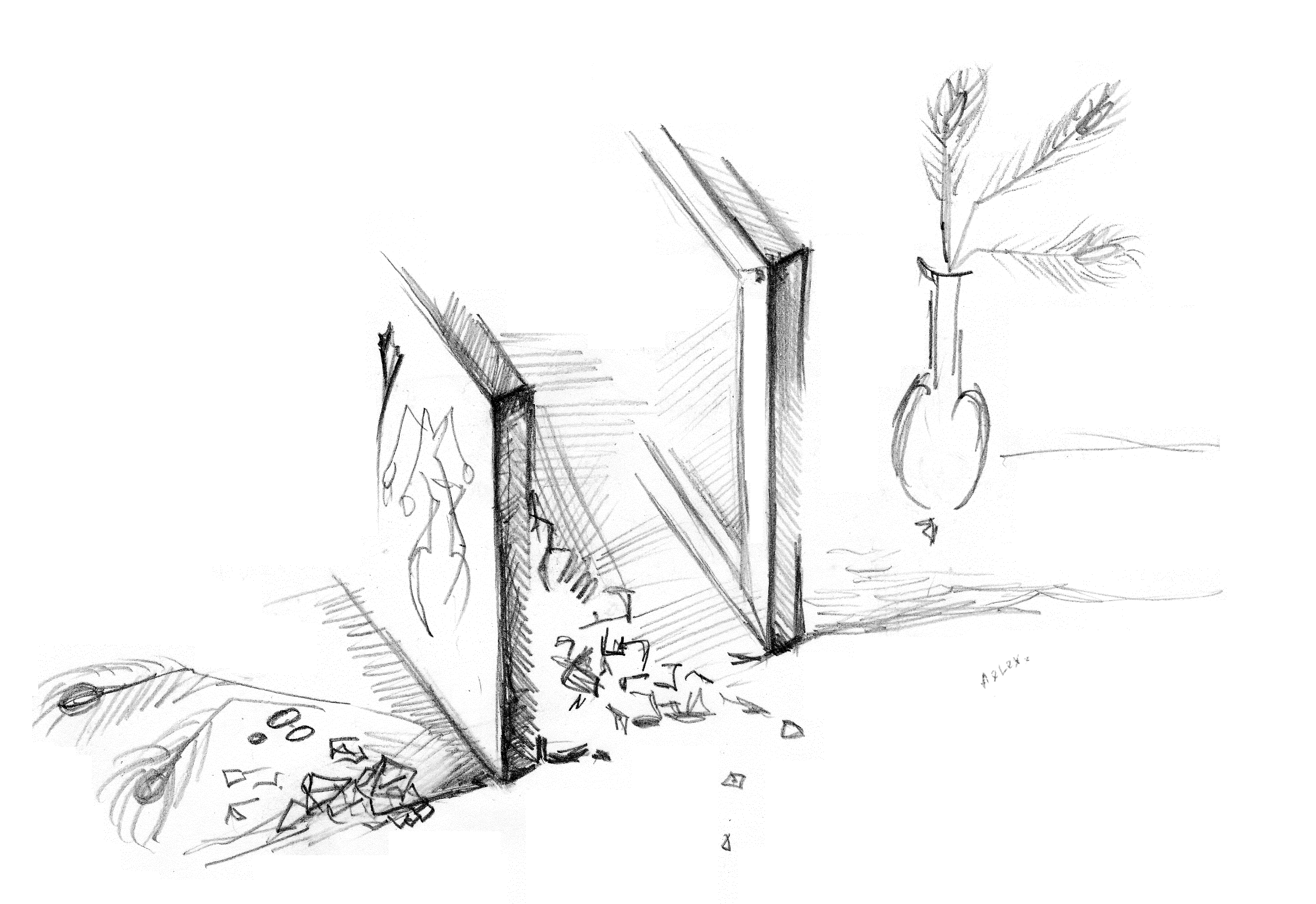Новелла
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 34, 2011
Александр Говорков
Загадка натюрморта
Рассказ
Мне нравится Нью-Орлеан. Последний раз я был в нём за полгода перед ураганом “Катрина”. Ничто не предвещало тогда беды. Французский квартал был полон туристов. На площади перед гугенотски скупым белым фасадом собора Сен-Луи продавали свои аляповатые творения местные художники. Я подошёл к решётке, отделяющей площадь от сквера с фонтаном и конной статуей Эндрю Джексона. Там, в перистой тени пальм, художники расположились сплошным рядом, привалив картины к чёрным чугунным прутьям решётки.
Такое бывает – что-то из окружающего неожиданно цепляет тебя. Словно беззаботно идёшь по негустому августовскому лесу и вдруг неизвестно откуда взявшаяся ветка хватает за шиворот или за рукав. Возможно, что меня привлёк неяркий, темноватый колорит этой картины, выделяющийся среди окружающего разноцветья. Собственно говоря, это был натюрморт. Стол, на нём две вазы, свеча, лежат несколько книг, разбросаны какие-то мелкие предметы — ничего особенного. И всё же я чувствовал тревожный зов, излучаемый картиной.
Продавец картины подошёл ко мне. Это был пожилой латинос измождённого вида. Руки его были запачканы краской – преимущественно красной. “Ваша картина?” — спросил я. “Да”. “Сколько стоит?”. “Двести” — на ломаном английском ответил продавец. “Дорого” — я повернулся и сделал несколько шагов прочь. “Сеньор! Сеньор!” — загомонил за спиной латинос. Я обернулся, не подходя близко. “Сколько может дать сеньор?”. “Сто”. “Сеньор – американец?” — почему-то отклонился он от темы. “Русский”. “Русский?! Хорошо, сеньор. Я согласен. Пусть будет сто”.
Я подошёл ближе. Латинос, осклабившись, совал мне руку. “Я
кубинец, я учился в Советском Союзе, в Ленинграде, я не люблю американцев…” — несвязно бормотал он, чудовищно коверкая слова. “Хорошо, хорошо, амиго” — я постарался, чтобы голос мой звучал дружелюбно – “эту картину вы рисовали сами?”. Этот вопрос я задал потому, что остальные картины, продаваемые новоявленным амиго, были чудовищной мазнёй в новоорлеанском стиле. “Да-да, сеньор, сам…вам её запаковать?”. “Если можно”.
“Пабло!” — крикнул кубинец и откуда-то вынырнул кудрявый смуглый парень, тут же сноровисто начав завёртывать натюрморт в плотную коричневатую бумагу. “Погоди-ка, Пабло” — художник взял у него картину и перевернул задней стороной холста вверх. Она была без рамы, но натянута на сколоченный из светлых реек каркас. “Как зовут сеньора?”. “Александр”. Кубинец достал из кармана огрызок карандаша, неровными буквами написал на холсте “Дону Алехандро от Мануэля” и размашисто расписался. “Теперь, Пабло, пакуй!”. Во время упаковки Мануэль полюбопытствовал: “Дон Алехандро приехал прямо из России?”. “Нет, Мануэль, я сейчас живу в городе М.”. “А я всего неделю назад был в М.” — весело сказал Пабло, подавая мне завёрнутую и обвязанную бечевой картину.
Я расплатился, распрощался и побрёл вглубь Французского квартала, по рю Бурбон, по рю Конде, по рю Конти…Следующим утром я возвращался в город М. на машине. Я ехал вдоль Миссисипи на север, картина лежала в багажнике и всю дорогу в машине стоял запах свежей масляной краски.
Распаковав по приезде натюрморт, я впервые подробно его рассмотрел.
На тёмном, буро-коричневом фоне изображён был медового цвета деревянный стол. На столе справа и немного спереди стояла чаша цвета старой бирюзы с золотистым орнаментом по краю. За чашей находилась китайская ваза, на боках которой нарисованы были красные и белые розы. Внутри вазы стояли пять павлиньих перьев, одно из которых было сломано и свешивалось надломленным концом. Кроме перьев в вазе находилась флейта. Почти вплотную к вазе лежала книга в коричневом кожаном переплёте. Название её различить было невозможно. За вазой и чуть левее её стоял сундучок цвета морской волны. Ещё левее были изображены три книги, одна из них была еле различима в бурой глуби полотна, две другие находились ближе и лежали стопкой, одна на другой. На них стояла оплавленная свеча. Стопка книг, ваза и чаша придавливали к поверхности стола два листа бумаги – верний голубой и белый нижний. Верхний лист наполовину надорван вдоль. На листах было что-то написано, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что изображения букв стилизованы и не принадлежат какому-либо алфавиту. Между белым и голубым листами видна были половина нотного листа. Но изображение нот тоже было стилизовано и поэтому воспроизвести мелодию, записанную на нотном стане, никому бы не удалось. На голубом листе лежали жёлтая (золотая?) монета и две спички – обгоревшая и целая. Ещё три монеты медного цвета располагались на переднем плане, между чашей и книгами. Две из них, видимо разного достоинства, лежали одна на другой, третья находилась поодаль, ближе к чаше. Это была не целая монета, а её половина. Причём распилена монета была не ровной линией по диаметру, а зубцами, так что край её сам напоминал пилу.
Прошло несколько недель. За это время я успел вставить натюрморт в раму и повесить на жёлтую стену гостиной. Однако, содержание его не оставляло меня в покое. Картина словно бы пыталась передать какое-то зашифрованное послание. Я попытался понять его смысл. Несмотря на несовременный колорит, натюрморт содержал довольно современную вещь – спички. Они были изобретены в 30-х годах 19 века. Изучив изображение целой спички, я пришёл к выводу, что она не фосфорная, а так называемая шведская. Такие спички начали производить с 1855 года, а в повседневное пользование они вошли в начале прошлого века. За что ещё можно было зацепиться? Названия книг прочитать нельзя, текст и ноты на листах бумаги не несут никакого смысла. Монеты… На них тоже ничего не разобрать – ни достоинства, ни года, ни страны. Конечно, интересна распиленная монета. Так – зубцами — распиливали монеты, половинки которых служили паролем или ключём для опознания. Пожалуй, распиленная монета нарисована была прежде всего для того, чтобы привлечь к себе внимание. Здесь уже чувствовался явный вкус тайны. Что ещё? Оплывшая свеча? Её зажигали обугленной спичкой…Значит, что-то происходило ночью – возможно, были написаны ноты и текст на листах. Чаша? На неё нарочито указывала своими зубцами распиленная монета. Но кроме словосочетания “чаша Грааля” ничего таинственного мне в голову не приходило. Оставалась ваза с павлиньими перьями и флейтой. Ваза явно китайской работы, такие делали в Китае пятьсот лет назад, такие же можно купить и сейчас в любом магазине.Флейта же сразу вызывала нехитрую цепь ассоциаций: “Волшебная флейта” — Моцарт – мышьяк. Всё это было слищком поверхностно. Перья павлина показались мне интереснее. В христианстве павлин – символ бессмертия, в исламе – космоса. Гностики тоже считали павлина “космической” птицей, насчитывая 365 красок в его оперении. Курдская секта иезидов называет павлина Мелек Таус (король-повелитель). Их странное верование представляет собой смесь зороастризма с христианством и исламом. Иезиды верят в загробную жизнь и принимают как обрезание, так и крещение. Наряду с Верховным Существом они почитают падшего ангела, изображая его в виде павлина. Все эти сведения были интересны, но не складывались в хоть сколько-нибудь целостную гипотезу. Я продолжал разыскания. Наконец, я узнал, что в Китае перья павлина были символом императоров циньской династии, которые, по примеру монгольских правителей, считали себя воплощениями бодхисаттвы Манджушри и приняли ламаизм. Хвостовые перья павлина со времён династии Минь являлись отличительным знаком чиновников, ими награждали за определённые заслуги. И самое интересное – наградные перья было принято ставить в вазу! Этот обычай просуществовал до 1918 года, исчезнув с провозглашением в Китае республики. Таким образом я определил две важных вещи: вероятное место действия – Китай, время действия – период с 1855 по 1918 год. Вместе с тем, картина была написана в явно европейской манере, непохоже было, что её автор – китаец.
И тут я словно очнулся. Какие иезиды? какие китайцы? Какой 1918 год? Автор натюрморта мне прекрасно известен. Это кубинец Мануэль, нищий художник. Почему же в своих умозаключениях я постоянно забываю о его авторстве? Почему подсознательно я исключаю его из возможных авторов картины? Потому ли , что ощущаемая мной её значительность не очень соответствует незатейливому облику Мануэля? Или потому, что виденные мельком остальные его работы резко отличаются от купленной мной картины? Но натюрморт написан совсем недавно, запах краски не выветрился до сих пор…
Эти загадки не давали мне покоя, и я решил, что проще будет ещё раз съездить в Новый Орлеан и расспросить Мануэля. Двести миль в один конец, двести – обратно, вполне можно уложиться за один день. Часы на соборе Сен-Луи показывали половину третьего, когда я вышел на примыкающую к собору площадь. День был будний, поэтому художников было немного. Я несколько раз прошёл вдоль решётки, но так и не увидел Мануэля. Не было его и в других местах площади. На всякий случай я пересёк сад и вышел с его противоположной стороны к набережной Миссисиппи, где в изобилии стояли запряжённые лошадьми прогулочные повозки. Мануэля не было и там. Я вернулся на площадь и собирался уже идти к машине, как буквально наткнулся на Пабло, стоящего у белокаменных ступенек, ведущих к открытым дверям собора.
“А, дон Алехандро!” — молодая память Пабло не дала сбоя. “Буэнос диас, Пабло” — поприветствовал я его – “ты не знаешь, где найти Мануэля?”. Во взгляде Пабло мелькнула настороженность: “Нет, его здесь нет. Что нибудь важное, сеньор?”. “Нет, нет, ничего важного. Я просто хотел немного поговорить с ним о картине, которую я купил”. Пабло насторожился ещё больше. “А что именно интересует сеньора?”. “Да ничего особенного. Меня заинтересовал сюжет”. “Ничем не могу помочь, сеньор Алехандро. Насколько я знаю, Мануэль скоро уезжает из Нью-Орлеана. Может быть, он уже уехал. Во всяком случае искать его здесь уже бесполезно”. “А ты, Пабло, что-нибудь знаешь про эту картину? Ты видел, как Мануэль её рисовал?”. “Нет, сеньор, я ничего не видел и ничего не знаю”. Я понял, что узнать что-то ещё у Пабло не получится, попрощался с ним и покинул Нью-Орлеан.
Картина продолжала висеть на стене, я привык к ней и всё меньше обращал на неё внимания. В конце концов, уговаривал я себя, фантазия способна творить чудеса, не имеющие отношения к реальной жизни. Поэтому всевозможные поли-мили-цейские должны быть людьми с ограниченным воображением, чтобы находить тайнам примитивные объяснения. Ведь преступления, как правило, примитивны.
Как-то раз я сидел в холле гостиницы “Ренессанс” в Торонто. В стеклянные двери вбежал лысый старикашка в светлых шортах с большой стеклянной вазой в руках. В вазе стояло восемь снежно-белых калл. Старикашка быстрыми шагами пересёк холл, вызвал лифт, нажав кнопку морщинистым локтём и поднялся куда-то наверх. Через несколько минут лифт спустился вниз и из него вышел давешний старик. В его облике не изменилось ничего, кроме одной, но яркой детали – в вазе стояло восемь огненно-красных калл. “Фокусник” — подумал я. Между тем старикашка столь же шустро вышел из гостиницы, унося с собой вазу с цветами и тайну их превращения. Немного погодя, в дверях появился тот же персонаж. В руках его была стеклянная ваза с восемью опять белыми каллами. Старикашка сверкал целеустремлённостью, словно спешил к любовнице. Уши его, пельменной лепки, крепко прижимали к черепу дужки стальных очков. Обряд вознесения на лифте был столь же стремителен. Я не успел насладиться увиденным, как лифт уже спустился вниз. Надо ли говорить, что из него вышел неугомонный старикашка со стеклянной вазой в руках. В вазе было восемь красных калл. Таинственный цикл повторился ещё пять раз. Всё оставалось неизменным, кроме цвета цветов: наверх – с белыми, вниз – с красными. Заинтригованный, я лихорадочно соображал. Что-то подсказало мне, что разгадка тайны заключена в количестве вояжей старикашки – семь. Как известно, Вселенная стоит на числе “семь”. Семь небес преодолевает душа в своих странствиях. Чтоб подтвердить догадку, я вызвал лифт и поднялся на второй этаж. Так и есть – в вестибюле этажа, напротив лифта стояла стеклянная ваза с восемью белыми каллами. Я не поленился посетить следующий этаж. Там стояла такая же ваза с восемью белыми каллами. В гостинице было семь этажей…
Прошло несколько недель. Однажды, шаря в почтовом ящике, я обнаружил среди вороха рекламного мусора замусоленный конверт. Письмо было адресовано мне, обратного адреса на конверте не стояло. Я не люблю неожиданных писем, поэтому нетерпеливо разорвал конверт, стоя у почтового ящика. Письмо было от Мануэля. Это меня неприятно встревожило. “Как он узнал мой адрес?” — бессознательно пронеслась советски наивная мысль. И сразу пришло разумное успокоение: “называл город ему и Пабло мотался сюда справочник жёлтые страницы повсюду имя и фамилию я называл дурак тоже подписывал он чёрт кубинский свою мазню”. Войдя в дом, я внимательно прочитал письмо. Оно было следующего содержания:
“Сеньор Алехандро!
Пабло мне сказал вы приезжали. Про картину спрашивали. Пабло пишет письмо. Я не умею. Говорю что писать. Сеньор Алехандро выбросьте ее быстро. Выбросьте. Так лучше. Я был в Советском Союзе. Больше двадцати лет назад. Я учился в Ленинграде. Кубинцев много училось. Нас пускали в русский музей. Мы копии делали. В склад тоже ходили. Хорошо было. Свобода. Я её в складе нашёл. Там как свалка была. Ненужные картины. Мне понравилась. Я копию хотел сделать. Попросил взять её домой. Мне разрешили. Всё равно ненужная. Я рядом с городом жил. В деревянном доме. Старухе платили. Я принёс начал рисовать. На ней много нарисовано. Буквы. Ноты. На книжках названия. Маленькие очень. Я в стекло смотрел. Буквы странные. Нот не знаю. Подумал нарисую просто так. Палочки нарисовал. А там настоящие были. Буквы какие-то и ноты. Подумал потом нарисую. Спрошу у кого-нибудь. И потом нарисую как там. Нарисовал в город поехал. Подумал спрошу про буквы. Настоящую картину в доме оставил. Свою вынес в кабину. Не помню по-русски. Вроде “serаi”. Плохой домик. Старуха ругалась пахнет краской. Вернулся из города дом сгорел. Совсем. Картина сгорела. Старуха жива. Говорит чужие ходили вокруг. Копия в кабине не сгорела. Скандал был. В музее ругались. Я в Гавану уехал копию тоже взял. Я потом ещё копии делал. С копии. Продавал. Штук 30 продал. В Гаване тоже пожар был. Потом воры. Я ещё копию с проданной уже сделал. Потому что хорошо покупали. Лучше чем другие. Сеньор Алехандро вам тоже продал. Совсем свежую копию. Выбросите её сеньор Алехандро. Вы уехали в Нью-Орлеане опять пожар был. Всё сгорело. Я её рисовать больше не буду. Я в Венесуэлу уезжаю. Или на острова. Сеньор Алехандро выбросите её. Spassiba. Мануэль”.
Письмо мне не понравилось. Создавалось впечатление, что Мануэль что-то недоговаривает. Но даже из сказанного было ясно, что картина содержит в себе некую тайну. Ключ к этой тайне содержался, видимо, в непрорисованных Мануэлем деталях – тексте на листе бумаги, нотах, названиях книг, надписях на монетах. Зловещими также показались все эти многочисленные пожары, воры и заклинания Мануэля избавиться от картины. Скорей всего это было каким-то бредом, но неугомонная фантазия уже придумывала тайную и страшную организацию, заинтересованную в уничтожении загадочного натюрморта. Судьба героев “Маятника Фуко” меня совершенно не прельщала. Даже выдуманный Франкенштейн способен уничтожить своего создателя. Поэтому, немного поразмышляв, я сделал то, что настойчиво советовал Мануэль – избавился от картины.
Дождавшись наступления очередной среды – дня сбора мусора – я выставил натюрморт на улицу, прислонив его к мусорному бачку. Вернувшись вечером домой, я обнаружил, что картину мусорщики забрали. Вероятно, её останки догнивают где-то на свалке. Не исключено, впрочем, что кто-то из мусорщиков взял картину себе и теперь она украшает незатейливый интерьер какой-нибудь негритянской хижины.
А позже, в августе, прорвавшие дамбу воды хлынули в Нью-Орлеан, сметая всё на своём пути – дома, ограды, картины, пахнущие краской следы Мануэля, молодую память Пабло… Лишь в моей памяти остался отблеск неразгаданной тайны, словно дальние зарницы так и не разразившейся грозы.