миниатюры
Опубликовано в журнале Новый Берег, номер 26, 2009
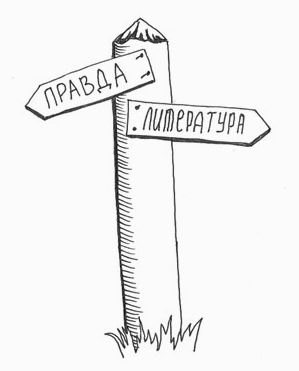
Мой дед по матери ездил по дороге жизни в Ленинград на полуторке, а когда он повстречал мою бабушку по матери, то он уже работал шофером на прожекторе, которым бабушка и управляла. Когда немцы бомбили города, дед разворачивал прожектор, а бабка освещала им ночное звездное небо, пытаясь поймать в перекрестие лучей с другими прожекторами пролетающие фашистские свастики.
В детстве я был уверен, что у меня все живые в семье потому, что дед и бабка поженились после войны, и только много позже, в зрелом возрасте, я узнал историю про форсирование Одера, когда Георгий Константинович осветил немецкие батареи на противоположном обрывистом берегу силами четырехсот прожекторных машин. Фашисты ослепли, вперед пошли русские лодки, а очухавшиеся враги расстреляли прожектора с экипажами в первую очередь. В живых остались лишь восемь человек из восьмисот.
На одной из таких не погибших машин сидели мои родственнички, но счастье им улыбнулось из-за дедовской смекалки, потому что дед после включения света за косы вытащил бабку в кусты, а подбежавшему лейтенантику дал сапогом в морду. Пока энкавэдэшник вытаскивал трофейный кольт, на его месте образовалась обширная воронка, и правыми сделались выжившие.
Я сидел на лавочке Кузьминского парка и пил с горла “Стара Прамен”, когда ко мне подошли инопланетяне и попросили закурить. Я узнал их по прозрачным шлемам, виденным мною на наскальных рисунках Таркунской пещеры и древних этрусских монетах.
Они глубоко пыхнули и ушли, а наутро светило солнце, шел дождь и визгливо мяукал старый продрогший кот Собакокиллер на крыше дома номер тринадцать. Радость переполняла мое сердце, и хотелось жить и жить снова.
Я никогда не отличался глумливыми манерами и чаще подаю в метро копеечку, чем презрительно отворачиваюсь, но…
Если ехать от Ленинградского вокзала до Конаково, то обязательно наткнешься на слепого нищего с механическими часами на руке, по которым нельзя без зрения узнать время. В грязных, но приличных лохмотьях, он двигается намеренно медленно по проходу, раскачиваясь из стороны в сторону так, чтобы ненароком задеть задремавших пассажиров.
Если путники зажмуриваются и делают вид, что ничего не происходит, то божий странник говорит громко о своей судьбе магнитогорского сталевара, получившего увечье в момент пуска домны по просьбам высокого начальства к коммунистическому празднику, и о том, что теперь он не может ни торговать, ни воровать, ни охранять.
Мне же, после такого выстраивания национальных приоритетов становится неудобно и дурные мысли лезут в голову, вплоть до неверия в искренность говорящего.
Впрочем, однажды мои догадки подтвердились, когда во время обхода вагонов в рамках операции “Перехват” убогого остановил милиционер Николай Петрович Лужкин и потребовал документы.
Странник выдал все справки, но при обратной передаче паспорта и свидетельств представитель власти в последний момент дернул рукой в сторону, и слепой повел за ней ладонью, несмотря на черные очки. А мне подумалось, что нехорошо так плохо говорить о Родине.
В первый полет “Буран” улетел в сторону моря, а я, когда прочитал об этом в газете, сразу подумал: “Что ему делать в стороне моря?” Так, раздумывая и куря, я дошел до работы, встретил Матвеича и спросил: “Может, “Буран” полетел не туда, а все сказали, что в сторону моря?”
Матвеич улыбнулся и ответил: “Улетел “Буран” туда, но квартальной премии не будет”.
-Я, Прохор Иванович, все могу понять: ну перестеряли всех, кого надо посадили, часть по лагерям распихали, но зачем этих-то по заграницам шманать? Вот Краснов, например, — просто старикашка никчемный, ну что его трогать? Или этот Бренштейн — Троцкий? Ведь, блин, и не в падлу было тащиться в Аргентину, чтобы его замочить?
— Понимаете, Владлен Евграфович, это ведь система. Бумажка вышла — и поехало и пошло по полочкам, по делам. Что-то сразу, что-то чуть позже, одного ускорили по звонку высочайшему, а другого — не торопясь. Таков быт большого механизма. Зато в большом механизме и казусы происходят. Я вот, например, восемнадцать лет от звонка до звонка — и ни одной судимости.
— Подчистили, что ли?
— Да нет. Взяли за батюшку, а дело где-то потерялось. “21” июня. Все на Запад — я на Восток. Батюшка был инспектором церковно-приходских школ. Не спасло даже то, что мы вместе с Владимиром Владимировичем “Окна РОСТА” разукрашивали. Всю войну в Воркутинской губернии и пребывал. Раз пять ходил к начальнику лагеря. Нельзя.… Если бы была статья — пожалуйста, в штрафные, а дела нет — нет статьи, нет статьи — нет армии. Судимому в армию нельзя.
— Не понял. Так ведь нету статьи-то.
-Во-во. Статьи нет, но судим, без статьи. Статью не присвоили, дело потерялось. Так я прожил все восемнадцать лет, даже свыкся. Плакаты рисовал, стенгазеты сочинял. При Никите Сергеевиче всех стали отпускать и реабилитировать — меня ни в какую. Вас говорят, заключенный Прохоров, ребилитировать нельзя — статьи на вас нет. Отменять нечего. Нечего отменять — нет реабилитации. Только в пятьдесят девятом, когда лагерь закрывали по распоряжению, меня вызвали и говорят: “Иди ты заключенный Прохоров к чертовой матери, охранников все равно увольняют, держать вас больше негде”.
Лагерь, кстати закрывал, Иван Петрович, взявший меня по сорок первому году. Только тогда он был лейтенантом, а война сделала его полковником.
Мой род ведет свое начало издалека, но самый известный предок — прадед по отцовской линии, бывший денщиком у Брусилова и отличившийся в первых рядах при взятии Галиции, за что был удостоен Георгиевского креста первой степени.
Возвратившись с фронта, он отказывался воевать и за кожаные куртки, и за благородных идальго, хотя к нему (как и к Брусилову) приходили и требовали присоединения. Вместо этого он забился в тайгу, построил каланчу, поставил на нее пулемет и высматривал, не идут ли разрушать семейный быт.
Дважды, в тысяча девятьсот двадцать первом и в тысяча девятьсот тридцать втором годах, ему удалось отбиться, но в тысяча девятьсот тридцать седьмом ленту заело и все разломали, сказав уезжать в Сибирь.
Из Сибири прадед вернулся угрюмым и злым. Ночами вскакивал, порываясь отстраивать башню. Однажды за ним не уследили и он ее возвел, но водружая на колокольню вместо пулемета оставшийся с войны танк, зашибся и всякие попытки прекратил.
Мы с братом на такси работаем и очень любим “московские” рейсы. Как-то раз один сел, адрес назвал и уснул. Мы и повезли его к морю, на такой тихий и красивый пляж. Там галька мелкая с ракушками перемешана. Мы там с детства с братом любили купаться. Ну вот, привезли мы его, чтобы карманы посмотреть, а он взял и проснулся. Брат у меня здоровый такой, а этот какой-то мелкий и плюгавенький. Так он как дал брату в лоб! Брат говорит: “Ты что делаешь, засранец?!” — и из машины, а тот вскочил и как даст брату по яйцам какой-то каратой, брат даже монтировку выронил. Я бегу, а он меня догнал… и я больше ничего не помню. Просыпаюсь: машины нет, выручки нет. А еще наш город ругают! Вон какие бандиты к нам из Москвы приезжают.
Когда князь Олег прибивал свой щит на врата Цареграда, он обратился к своей дружине и сказал: “Дорогие мои варяги, русы, славяне и поляне”.
А потом они зачем-то все поисчезали, и остались одни русские.
А еще остались армяне, турки, монголы, татары и буряты. И почему-то финны.
В нашем доме есть броневичок, и я на него забираюсь и начинаю вещать серьезные вещи. Когда окружающим надоедает, они зовут жену, и она снимает меня с броневичка. Но в последнее время я заметил, что жена снимает меня не для того, чтобы люди отдохнули, а чтобы после этого забраться самой и начинать вещать. Я это понял и теперь с броневичка не спускаюсь.
В Москве борются с преступностью, и поэтому милиционеры спрашивают паспорта. Мне кажется, любой человек, надев форму и выйдя на улицу, через два часа получает способности, которые позволяют находить в толпе нужного человека. У нужного человека неисправен паспорт.
Закончив аспирантуру и купив в Москве квартиру, я еще три года не решался в нее прописаться, опасаясь майора Иванова, возглавлявшего Мытищинский военкомат. Поэтому стоило мне появиться после работы на переходе со станции “Пролетарская” на “Крестьянскую заставу”, как меня тут же останавливали и допрашивали.
В конце концов я внес в свой бюджет отдельную строку, познакомился с проверяющим и стал с ним при встрече здороваться за руку, а он пару раз звал меня выпить пива.
Теперь он от меня отворачивается, потому что очень обиделся, когда я сделал себе прописку.
Там где начинается правда, заканчивается литература. И это правда.
Первым русским был дед Пантелей, а умирая он стал изменяться: дыхание его превратилось в ветер и облака, голос — в гром, глаза — в солнце и луну, четыре конечности и пять пальцев руки — в четыре части света и пять священных икон, кровь — в реки, мускулы и вены — в Среднерусскую возвышенность, крайняя плоть — в кубанский чернозем, волосы и борода — в малую медведицу и планеты, кожа и волосы — в леса и поля, зубы и кости — в малахит и железо, семя и мозг — в золото и янтарь, пот — в дождь и реки равнинные… А паразиты, живушие на нем — в граждан.
Усталый и голодный я шел с работы домой, когда увидел бедную замученную собаку в подворотне нашего дома. Полуметровый черный пес сидел, сжавшись комочком, у ступенек и смотрел выжидающе всем проходящим в глаза, словно хотел просить о помощи. У пса висел до пола хвост, болтались уши, он подпрыгивал на трех лапках, так как четвертая была перебита и каким-то сердобольным человеком перебинтована. Как мне его было жаль, как мне его было жаль! И я заплакал, и, честное слово, — мне еще никогда так не плакалось, и никто не вышибал у меня столь едкую слезу.
“Пойдем”, — сказал я ему, позвал рукой, и мы пошли в лифт вместе, потому что пес оказался добродушным и отзывчивым, словно давно уже ждал своего хозяина.
Жена, когда увидела пса, закричала: “Он огромный, он грязный, он вшивый, а у нас кот не привитый, а тебе давно уже пора зашиться, а ну-ка дыхни”.
Я дыхнул, но продолжал плакать, так как мне еще в жизни никого не было так жаль, как этого пса.
Я великий друг великих русских поэтов и прозаиков. Ко мне часто заходит Языков и говорит о головных болях, которые его мучают в последнее время. Пушкин плачется мне в жилетку и рассказывает о похождениях Натальи Николаевны. Гаспаров и Лотман обсуждают со мной тайны метрики и не чураются советов.
Еще я люблю ходить в редакции толстых журналов и обсуждать с главными редакторами, почему не печатают талантов и гениев. Таланты и гении смотрят на меня с надеждой и думают: “Справлюсь ли или нет?” Но я справляюсь!
Недавно ко мне заходили ученики Гумилева и жаловались на учителя. Стал он строг, неотзывчив и надменен, поэтому пришлось найти его мобильник и позвонить. Гумилев долго извинялся за доставленные неудобства и обещал исправиться.
По вечерам в ресторанах мы обсуждаем с Гиляровским и Достоевским человеческие слабости больших городов. Я радостно хлопаю их по плечам, а они провожают меня до мерседеса, снимая на прощание кепки.
“Послушайте, — кричу я им из окна отъезжающей машины, — волнение не надуманная блажь, а свойство человеческой натуры”. И они согласно кивают в ответ головами.
А вчера я поднял телефонную трубку, а там — на ломаном французском, Умберто Эко.
“Как вам, — говорит, — Славик, моя последняя книга? Имеются ли существенные замечания? Едьте чартером в Париж. Какая презентация без Вас. Сами понимаете”.
“Не могу, — отвечаю я — встречаюсь в четверг с Коэльо. Обходитесь без меня”. И на другом конце раздаются обиженные гудки.
Так и кручусь повседневно, потому что всех люблю. Смотрю, как они без меня обходятся, бедные, и слезы наворачиваются.
Антарктика никому не принадлежит и там можно основать свое государство. Государство пингвинов и полярников. Седые полярники с заиндевелыми усами сидели бы в кругу пингвинов и пили чай, а пингвины бы задирали вверх головы, когда прилетали самолеты. Если в Антарктике основать свое государство, то можно придумать свой герб и свой гимн. Можно даже придумать свой флаг и ходить с ним гордо по центру Антарктики, и размахивать во все стороны. Но все же до сих пор непонятно, как там существуют полярные станции, если там нет государства. У кого они арендуют землю и как обходятся с пингвинами? Если пингвины — коренные жители, то почему у них нет своей Думы и своего президента, чтобы встречать самолеты и петь приветственные песни?
Я уже представил, как стоит хор молоденьких пингвинов в пуху и поет приветственную песню седым полярникам, а они улыбаются и проводят мирные опыты по изучению климатических условий.
Все что останется от русской поэзии
По дороге в метро я останавливаюсь возле продавцов поздравительных открыток, чтобы почитать тексты стихов.
Читаю себе спокойно, читаю, а потом разворачиваюсь, ухожу и думаю: “Еще век-два — и это все, что останется от русской поэзии”.
Николай, владелец десяти палаток, часто подходил ко мне во дворе, брался за пуговицу пальто, пристально смотрел в глаза и говорил:
— Понимаешь, Слав, какая мистика. Когда я сплю с женой, представляю любовницу, а когда ворочаюсь с любовницей, воображаю жену.
— Парадокс, — немного подумав, отвечал я, и Николай отпускал мою пуговицу и понуро брел к машине, оставляя след на свежем белом снегу.
Я долго глядел ему вслед и думал о грустных загадках Вселенной.
Нашей фирме потребовался новый сотрудник, и мы всей компанией собрались и стали обсуждать, каким он должен быть. Секретарша Леночка сказала, что у него должны быть умные глаза. Тамарочка из отдела обслуживания клиентов протянула, что у него должен быть приятный голос. Начальник отдела технической поддержки Федор Лукич потребовал, чтобы новый сотрудник не пил и не курил, а главный бухгалтер Таисия Генриховна прошептала, что главное — это доброта и отзывчивость.
Мы еще долго спорили и совещались, громко кричали и били по столу кулаками и в конце концов решили взять собаку.
У одной женщины был муж, который любил томатный сок. За один вечер он выпивал литр сока и жена выпивала литр сока, и так продолжалось пятьдесят лет. Когда он стал умирать в семьдесят пять лет, жена призналась ему, что с детства ненавидит томатный сок.
Одна женщина курила с четырнадцати лет, и все у нее не ладилось с мужчинами. То был молодой любовник, то старый любовник, но всем она говорила, что ни за что не бросит курить. Но когда она в тридцать девять лет вышла замуж, муж попросил ее бросить курить, и она курить бросила.
Мне один известный писатель говорил, чтобы я не сочинял про бога, потому что поймут единицы, а слава и признание если и придут, то только после смерти. Поэтому я пишу про комодных слоников, розовые шторочки и стиральную машину “Вятка — автомат”.
Наваляю, сижу и думаю: “Удалось или не удалось, затронул ли высшие материи или не затронул”. Если задел, то все черкаю карандашом, а если нет, то радостно повизгиваю и жду признания.
Мой друг поэт Сеня пил, матерился, совершал многие глупости, о которых не жалел, а иногда баловался травой и героином. На своих выступлениях он собирал многотысячные залы последователей, которые делали все то же самое, но под музыку и ритмическое бормотание стихов. Толпы кричали: “Сеня, Сеня”, а он хлопал ладонью по достоинству и орал: “Вы, слышите меня, бандерлоги?”. Бандерлоги кидали бутылки и радостно ревели.
Однажды он попал в передрягу и заболел, а спасся чтением священных книг, посещением старцев и глубокой исповедью. По выходе из болезни Сеня полностью пересмотрел свою жизнь, отказался от излишеств и написал свои знаменитые три божественных цикла, которые вошли в богословскую энциклопедию начала двадцать первого века.
Иногда я встречаю Сеню, и он, приобнимая меня, говорит: “Ты знаешь, Славик, сколько сейчас собирают мои концерты? Тридцать человек!”. Я в ответ вытягиваю лицо и непонимающе мигаю глазами.
“У нас на Кубани, — рассказывал дед, — был пес Тузик. Жил в конуре глубиной полметра, потому что все из глины, а он рыл лапами, и получалась яма. Кормили его только хлебом: утром полбуханки, вечером полбуханки. И только я из борща иногда вынимал сало, и Тузик слизывал его с ладоней. Поэтому был худющий, но добрый. Дождь идет, все куры спрячутся от воды у него в будке, а Тузик на крыше сидит и мокнет. Не хочет их выгонять. Тогда выходила мать и жердью гнала кур в курятник, а собака благодарственно лаяла. Еще Тузик выл по ночам и громко гавкал, чтобы показать свою работу.
Он прожил у нас восемь лет и убежал, когда приблудившийся щенок повесился. Щенка в курятнике привязали, а он через насест перекрутился и повис. Тузик посмотрел, расстроился, перегрыз веревку и убежал”.
В детстве я знал трех поэтов: Есенина, Маяковского и Бориса Ручьева. Есенина маме вместо денег подарила жена секретаря райкома за пошитый костюм. Маяковского купил папа, когда я в школе проходил поэму “Владимир Ильич Ленин”, чтобы я знал, кто такой ВИЛ. А Борис Ручьев достался в нагрузку к “Трем мушкетерам” за сданную макулатуру.
Ручьева я знал всего, хотя он был репрессирован, Маяковского любил больше, а в Есенине перечитывал “Анну Снегину”.
В восьмом классе учительница литературы Лидия Григорьевна попросила всех прочитать свои любые стихи, и я продекламировал Бориса. Она долго слушала, а потом сказала, что ее дедушку тоже сослали в Воркуту за то, что он при Николае II был востоковедом. Написал две работы про ханси и манси, а в Париж не уехал.
Весь класс сочувственно слушал Лидию Григорьевну, но смотрел почему-то на меня. Я же жалко мялся у доски и думал, что лучше бы я прочитал “Анну Снегину”.