Григорий Кружков
Опубликовано в журнале Арион, номер 3, 1997
Григорий Кружков ВЛАДИМИР БЕНЕДИКТОВ НА ФОНЕ ВОЛН И ХОЛМОВ I Литературная репутация — вещь весьма консервативная, особенно если она удобно встраивается в готовую схему. Бенедиктова вспоминают, чаще всего, в связи с Пушкиным и в связи с Козьмой Прутковым. В первом случае это легенда о гении, преданном друзьями и неблагодарной публикой, отданном ими на растерзание бездушному свету. Литературным антиподом героя в этом сюжете выступает Булгарин, но он прозаик, а для симметрии требуется и поэт, который как бы украл у Пушкина любовь читателей. С легкой руки Белинского таким антиподом делается Бенедиктов — благо его первый сборник, изданный в 1835 году, действительно имел большой успех. Но помилуйте — Бенедиктов не был ни агентом полиции, ни доносчиком, и ничего плохого он Пушкину не сделал! Для легенды это неважно, оппозиция выстроена: Пушкин — Бенедиктов, Моцарт — Сальери, гений и злодейство (то бишь, бездарность, что одно и то же). Так оно и запомнится.
В 1850-1860-е годы граф Алексей Толстой с братьями Жемчужниковыми, конструируя образ Козьмы Пруткова, снова обопрутся на Бенедиктова, даже заставят героя, поэта-чиновника с космическим замахом, служить по тому же ведомству (финансовому)*, что и Бенедиктов. Правда, на службе состояли и Гораций, и Гете; а в пушкинское время человеку без средств, чтобы честно прокормить себя и семью, непременно нужно было служить — и не просто числиться, а каждый день ходить на службу. Миф в такие подробности не входит, для него поэт и бюрократ в одном лице — смешно и не соединяется. Опять-таки космический замах узнается в прутковском прототипе, а это тоже смешно — особенно, в те годы, когда в поэзии утверждается некрасовская «реальная» школа. Бенедиктов попадал явно не в струю, следовательно, подпадал под пародию.
Соперник Пушкина или же прообраз Пруткова — таким он впечатался в «воздушную» хрестоматию русской литературы, не стихами впечатался, подчеркнем, а репутацией, то есть, ходячим образом, перелетной сплетней. А жаль — потому что лучшие его стихи поистине замечательны — и еще потому, что размышления над бенедиктовским стилем и судьбой помогают лучше понять пути русской поэзии в ХIХ веке, в историко-типологическом и общеевропейском контекстах. Не случайно поэт много и плодотворно переводил: в том числе Шекспира (сонеты), Барбье и Гюго, Шиллера, Шандора Петефи, Мицкевича, а также чешских и сербо-хорватских поэтов.
Именно с переводов и мы начнем, а конкретнее, со стихотворения Теофиля Готье «Поэма женщины» («Le Poe╒me de la femme»), напечатанного впервые в 1849 году и включенного в знаменитый сборник Готье «Эмали и камеи» (1852). Перевод Бенедиктова, опубликованный в 1856 году, называется «Женщина-поэма» и начинается так:
Поэт! Пиши с меня поэму! —
Она сказала. — Где твой стих?
Пиши на заданную тему:
Пиши о прелестях моих!
Тот самый, предубежденный, читатель, если он не читал Готье, а только слыхал что-то о главе Парнасской школы, непогрешимом мастере стиха, воскликнет: «Ага, он уже и Готье опошлил! Нет, наверное, у французского поэта никаких жеманных «прелестей», вообще ничего такого нет!» И ошибется строгий читатель. В оригинале у Готье так: «Однажды в моих страстных грезах, для того, чтобы показать свои сокровища (ses tre╒sors), она возжелала прочесть мне поэму, поэму своего прекрасного тела». Вот так! По-моему, «прелести» вполне адекватны «сокровищам», хотя и несколько деликатней… И далее в восемнадцати строфах красавица не спеша то наряжается, то обнажается перед поэтом, принимает различные обличья — светской львицы, Афродиты, султанши, сладострастной грузинки, бесстыдной одалиски, принимает разные позы — стоя, полулежа, сидя по-турецки — и наконец , откинув голову, умирает как бы в пароксизме любовной страсти.
Итак, мечтательное описание прекрасной женщины во всей ее дерзкой соблазнительности, причем описание дотошное и инвентарное — тема отнюдь не только Бенедиктова и подражавшего ему Козьмы Пруткова. Стихи в этом духе характерны и для их французского современника — поэта, о чьей репутации ни во Франции, ни в России заботиться не приходится. Возьмем, например, стихотворение Готье «Мажорно-белая симфония», посвященное белизне женского тела. Вот с чем поэт сравнивает эту белизну: 1) с лебединым оперением, 2) с лебединым пухом, 3) с заоблачным ледником, 4) с камелиями, 5) с шелком, 6) с изморозью и снегом, 7) с волокном тростника, 8) с морской пеной, 9) с мрамором, 10) с опалом, 11) со слоновой костью, 12) с горностаем и т.д. — мы дошли только до половины стихотворения. Чем это не повод для пародии, повод столь же законный, как и бенедиктовские «Кудри» —
Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад…
Однако в более широкой литературно-исторической перспективе длинные цепочки метафор, каталоги сравнений — отнюдь не диковинка, а известный поэтический прием, характерный в частности, для ренессанса и барокко. Причем в литературе барокко цель такого каталога бывает именно в том, чтобы поразить читателя соединением несоединимого, неожиданными сближениями далеких смыслов. При этом обыгрывается прием как таковой, поэтическая техника. Бывают периоды в искусстве, когда форме придается главное значение, когда портретисты, например, переносят внимание с внутреннего мира личности на мельчайшие черты внешности и костюма, на символику деталей или на передачу материального изобилия жизни. Таков, например, бидермайер — немецкий стиль между романтизмом и реализмом; картины того времени (1820-1850 гг.) поражают наивным роскошеством женской плотской красоты. Бенедиктов тоже пишет картинно, поэтому его вдвойне интересно сравнить с живописью того времени, и не только немецкой. Разве бенедиктовская «Наездница» («Люблю я Матильду, когда амазонкой Она воцарится над дамским седлом») не вызывает в памяти знаменитую картину Брюллова, аллегорически изображающую доминацию ангельско-женского начала над зверино-мужским:
Гордяся усестом красивым и плотным,
Из резвых очей рассыпая огонь,
Она — властелинка над статным животным,
И деве покорен неистовый конь, —
Скрежещет об сталь сокрушительным зубом,
И млечная пена свивается клубом,
И шея крутится упорным кольцом.
Красавец! — под девой он топчется, пляшет,
И мордой мотает, и гривою машет,
И ноги, как нехотя, мечет потом…
Стихи Теофиля Готье тоже вызывающе визуальны, их можно отнести к известному с древности жанру экфразы, то есть «описательной речи». Они эмблематичны, литературны — и в то же время овеяны нешуточным пафосом вымечтанного ими же момента. Это ли не бенедиктовская тема? Вот почему он с таким вдохновением перевел «Поэму женщины» из «Эмалей и камей». Может показаться удивительным, но по поэтическому мастерству, да и просто по переводческой технике, работа Бенедиктова стоит намного выше перевода Гумилева, изданного в 1914 году, а ведь Готье был для Гумилева принципиально важным автором, по его выражению, одним из «краеугольных камней в здании акмеизма», наряду с Шекспиром, Рабле и Франсуа Вийоном. Не знаю, чем объяснить, но только «Эмали и камеи» вышли у Гумилева далеко не безупречно; тут лучше поверить не хвалебному отзыву Мандельштама о труде погибшего друга*, а непосредственному мнению Зносско-Боровского, секретаря редакции «Аполлона» , где в 1911 году была напечатана первая порция переводов Готье с предисловием Гумилева: «…и статья неважная, переводы ужасны»**.
Сравним:
Она могла бы Клеомену
Иль Фидию моделью быть,
Венеру Анадиомену
на берегу изобразить.
(Перевод Гумилева)
Где Аппелесы, Клеомены?
Вот мрамор — плоть! Смотрите — вот
Из волн морских, из чистой пены
Венера новая встает!
(перевод Бенедиктова)
Первый вариант явно слабее. Он и зарифмован кое-как. «Моделью быть», «изобразить» — какие вялые выражения! А прочтем по рифмам вариант Бенедиктова: «Клеомены — вот — пены — встает!» Совсем другое дело! И как верно он догадался, что «Венера Анадиомена» мало что говорит русскому уху, что надо и слово Анадиомена (Пенорожденная) перевести с греческого: «Из волн морских, из чистой пены Венера новая встает!»
Дело не только в том, что практически в каждой строфе Бенедиктов побивает своих соперников по переводу — не только Н.Гумилева*, но и Ю. Даниэля (несмотря на то, что в этом заочном соревновании Бенедиктову вытянулся первый номер) — перевод его целен, органичен, совершенно не пахнет переводческим потом. Возьмем, например, концовку Готье:
Перевод Гумилева: Et que mollement on la pose
Sur son lit, tombeau blanc et doux,
Ou` le poe`te, a` la nuit close,
Ira prier a` deux genoux!
И тихо пусть ее положат
На ложе, как в гробницу, там,
Куда поэт печальный может
Ходить молиться по ночам.
Эта строфа может служить ученым примером ложного метода. Переводчик старается идти слово в слово за оригиналом, насколько и покуда возможно, — это всегда заводит в тупик! Он доходит до слова «гробница», видит, что до конца строфы остается только один слог, и заполняет его односложным «там», совершенно ненужным предложению. Мы словно слышим переводческий стон: о, если бы можно было совсем обойтись без этого там! Но обойтись уже нельзя. И главное — нарушена драматургия стиха, временна╒я последовательность действий: у Готье сперва мы видим поэта («ou` le poe`te»), затем свет медленно гаснет («a` la nuit close»), и уже в этих роскошных потемках поэт приближается к ложу-гробнице своей дамы, чтобы молиться перед ней («ira prier») — и, приблизившись, падает на колени («a` deux genoux»).
Все! Занавес падает!
У Гумилева же вместо эффектного зрелища — рутинное ежедневное действие: поэт ходит молиться по ночам, и даже менее того, не ходит, а «может ходить». Разумеется, ни о каком восклицательном знаке, ни о каком экстазе и речи быть не может. Восклицательного знака и нет. В крепкой строфе все самое главное должно прочитываться по рифмам. Проверим: «положат — там — может — ночам». Плоховато.
Концовка Даниэля несравненно сильнее:
И пусть постель, ее гробница,
Сияет нежной белизной —
Пред ней склониться и молиться
Поэт придет порой ночной!
Но и здесь есть важный недостаток — «порой ночной». Эти слова слишком вялые для концовки, тут какое-то медленное угасание света вместо необходимого сильного жеста. Даниэль сохраняет восклицательный знак, но посмотрите — он здесь как-то не вполне уместен, «порой ночной» его разжижает.
Бенедиктов и тут поступает кардинально. Он переносит мотив могилы (или гробницы) несколькими строками выше, чтобы прочней зафиксировать его в сознании читателя перед кодой и освободить место для создания ноктюрновой атмосферы последней строфы:
И в ночь, когда ложатся тени
И звезды льют дрожащий свет, —
Пускай пред нею на колени
Падет в безмолвии поэт!
Смотрите, какое он находит простое решение. Слово «колени» не удается вставить в конец самой последней строки, как в подлиннике — так что же! — он выносит их в конец предпоследней строки, и это, оказывается, только усиливает эффект. На словах: «И пусть пред нею на колени…» — колени уже подгибаются, и после краткой межстрочной паузы поэт со стуком и грохотом падает перед своей дамой:
Падет в безмолвии поэт!
II Наряду с яркой визуальностью и каталогизацией метафор, стиль Бенедиктова отличается еще одной чертой — тяготением к космизму. Это, с одной стороны, сближает его с Глинкой и Тютчевым (метафизическим направлением в русском романтизме), с другой — с европейским барокко. В первую очередь я имею в виду удивительное стихотворение Бенедиктова «Вальс», рядом с которым просто нечего поставить в русской поэзии. Структурно он напоминает стихи английского «поэта-метафизика» Марвелла «К стыдливой возлюбленной» с их резкой сменой тона в середине — от иронической куртуазности к пафосу космического масштаба. У Марвелла сигналом служат строки:
У Бенедиктова так: Но за моей спиной, я слышу, мчится
Крылатая мгновений колесница*.
Вот осталась только пара,
Лишь она и он. На ней
Тонкий газ — белее пара;
Он — весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема,
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система
Торжествует в их глазах.
Вот летят! — Смычки живее
Сыплют гром; чета быстрее
В новом блеске торжества
Чертит молнии кругами,
И плотней сплелись крылами
Неземные существа.
Темп стихов убыстряется, и в финале он и она как бы отделяются от остального мира, сливаясь в одну бешено кружащуюся и мчащуюся форму; у Бенедиктова это «мрачная планета с ясным спутником своим», у Марвелла — катящийся клубок, в который сплелись влюбленные:
Всю силу, юность, пыл неудержимый
Сплетем в один клубок нерасторжимый
И продеремся, в ярости борьбы,
Через железные врата судьбы.
И пусть мы солнца в небе не стреножим —
Зато пустить его галопом сможем!
Интересно, что у Бенедиктова повторен даже этот барочный контраст «нежного» и «железного»:
Брызжет локонов река,
В персях места нет дыханью,
Воспаленная рука
Крепко сжата адской дланью,
А другою — горячо,
Ангел, в ужасе паденья,
Держит демона круженья
За железное плечо.
Бенедиктов вряд ли читал Марвелла, и тем не менее сходство это не случайно, а связано с повторяющимися в истории искусства типологическими моделями. Есть два крайних полюса: для одного характерен идеал гармонической красоты, ясность стиля и формы, экономия в отборе украшательных средств, тяготение к равновесным, статическим ситуациям. Таковы ренессанс и классицизм. На другом полюсе — стиль, влекущийся к конфликтам и противоборству. Для него характерны усложненные конструкции, таинственная зыбкость, избыточная декоративность. Законченность более не цель, наоборот — ценится незавершенность, выход за рамки, «бесконечность перспективы», которая часто достигается внешними способами (фрагмент как поэтическая форма). Таковы черты барокко и романтизма.
Эту схему можно обобщить, вовлекая в нее реализм, эстетически родственный ренессансу и классицизму, и пришедший на смену реализму «неоромантизм», то есть различные школы модернизма, в частности, русский символизм. В итоге получается некая «периодическая система» стилей*, графически изображаемая синусоидой (ее можно было бы назвать «Холмы» или «Волны» — в честь излюбленных образов Бенедиктова):
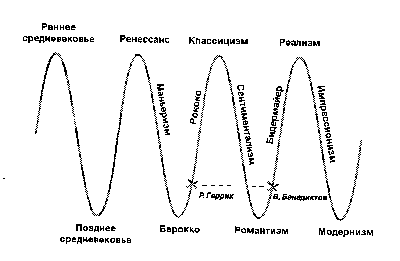
Разумеется, в группировке культурных данных нельзя рассчитывать достичь математической или естественнонаучной полноты и точности. Границы тут условны, стили могут сосуществовать и смешиваться друг с другом. И все же, при всех оговорках, вышеприведенная схема полезна. Она иллюстрирует повторяемость тенденций и уклонов в искусстве, переходящих «минуя отцов, к дедам», объясняет сходство отдаленных во времени явлений.
III Бенедиктов — поэт переходного периода, от романтизма к реализму. Эндрю Марвелл (1621-1678) — также поэт переходного — от барокко к классицизму — периода в английской литературе. Типологически середина ХVII века в Англии схожа с серединой XIX века в России: и тут, и там это время междуцарствия после ухода великой поэтической плеяды (шекспировской или пушкинской) — междуцарствие и, с одной стороны, подражание выработанным образцам, с другой — поиск новых путей. Интересные параллели находятся у Бенедиктова и с другим английским поэтом, современником Марвелла, Робертом Герриком (1597-1674). Этот поэт-священник неподражаемо описывал женщин — описывал именно как предмет искусства: гребенки, прически, кружева, ленты, шнуровки, башмачки, складки юбок:
Сравним с В.Бенедиктовым: Вдыхая аромат ее шагов,
Я онемел, я умереть готов —
Весь в благорастворении шелков.
Я различаю сквозь туман в глазах
Волненье складок, дивных линий взмах —
Тону, тону в трепещущих волнах*.
И вьются в ловком беспорядке,
И шепчут шорохом надежд
Глубокомысленные складки
Ее взволнованных одежд.
(«Кокетка»)
Какие необычайные выражения! «Глубокомысленные складки», способные относиться и к морщинам мудреца, и к женскому платью, проводят остроумную параллель между мужской мудростью, направленной на познание природы, и женским искусством, направленным на покорение мужчины. В двух смыслах работают и «взволнованные одежды». Эти находки вполне стоят «благорастворения шелков», и «волненья складок» (в оригинале «that liquifaction of the clothes» и «that brave vibration») — смелых оборотов Роберта Геррика, восхищающих не одно поколение английских критиков.
Оксюморон Бенедиктова «ловкий беспорядок» также вызывает ассоциации с Герриком — прежде всего, с его стихами о «Пленительности беспорядка», в которых поэт восхваляет небрежность и безыскусность женского убора:
Бант, набок сбившийся игриво,
И лент капризные извивы,
И юбка, взвихренная бурей
В своем волнующем сумбуре**,
а также с другим стихотворением, где он все-таки ставит искусство женского наряда выше природы («Искусство выше природы»):
Когда сквозь дивный гребень твой
Каскад струится золотой,
Или цветочный твой убор
Мне очаровывает взор,
Иль новая прическа чудно,
Как многоярусное судно,
Встает передо мной, напружив
Прямые паруса из кружев;
Когда вдруг косы захотят
Улечься в круг, овал, квадрат,
Иль завязаться в сто узлов,
Чтобы поэт лишился слов;
Когда сии златые травы
Развиты сонно и лукаво
И, завиваясь там и тут,
Меня волнуют и зовут —
Тогда мои прельщают чувства
Не столь природа, сколь искусство.
(Перевод Т.Гутиной)
Таков Роберт Геррик. Так же, как у Бенедиктова, деталь Геррика порой работает на грани смешного: скажем, когда он сравнивает белоснежную и гладкую дамскую ножку… с яйцом («as white and hairless as an egg»).
Такой подход уязвим, но — «искусство требует жертв». В стихотворении Бенедиктова «Кокетка» (между 1842 и 1850) серьезная и ироническая сторона этого афоризма неотделимы. Кажется, что и притягивает поэта к женщине не что иное, как их общее призвание и судьба — служение красоте (или ее иллюзии):
Нам предназначено в удел
Жить не для счастья — для искусства
И для художественных дел.
Кокетка Бенедиктова — талантливая актриса, когда она уловляет мужчин не грубым кокетством, заметьте, а «соблазнительным страданьем»:
Она — художница в том потрясающем эпизоде, когда, постарев, заново рисует себя поверх себя же самой: С какой сноровкою искусной
Она, вздыхая тяжело,
Как бы в задумчивости грустной
Склонила томное чело
И, прислонясь к руке уныло
Головкой хитрою своей,
Прозрачны персты пропустила
Сквозь волны дремлющих кудрей…
Тогда, с заботой бескорыстной
За труд бросаясь живописный,
Она все розы прошлых лет
На бледный образ свой бросала
И на самой себе писала
Возобновленный свой портрет.
Тема, выбранная Бенедиктовым в «Кокетке», уникальна в современной ему русской поэзии. Лидия Гинзбург в своем предисловии к изданию 1937 года предполагает влияние вообще французов и, в частности, Бодлера. Но и у Бодлера мы не находим ничего вполне похожего на ту параллель между трудом женщины и поэта, которую проводит Бенедиктов: «Добыт трудом и куплен кровью Венок нелегких ей побед. В сей жизни горестной и скудной Она свершает подвиг трудный…» Зато вспоминается Пастернак:
И Ахматова: Быть женщиной — великий труд,
Сводить с ума — геройство.
Нам свежесть глаз и чувства полноту
Терять не то ль, что живописцу зренье,
Или актеру — голос и движенье,
Иль женщине прекрасной — красоту?
IV Судьба Бенедиктова драматична. Талантливый лирик, он создал несколько по-настоящему оригинальных стихотворений (среди которых, безусловно, «Кудри», «Вальс» и «Кокетка»), и множество неудачных, либо полуудачных, то есть замечательных либо началом, либо концом, либо несколькими стихами в середине. Он нащупал новые пути в русской поэзии — между метафизикой и эстетизмом, наивностью и иронией — то есть между Тютчевым и Готье, Полонским и Гейне. Но у него не хватило — чего? таланта, концентрации? — довершить синтез и выработать стиль. У него не хватило уверенности в себе — идти против течения, когда в русском искусстве возобладали натуральная школа и социальный уклон.
После негативной рецензии Белинского на его сборник 1842 года, после насмешливых отзывов Некрасова и Тургенева на его стихи в альманахе «Новоселье» (1846) и, наконец, после появления прутковских пародий Бенедиктов окончательно сник. Он покаялся в «грехах» эстетизма, стал тоже, по мере сил, «поднимать вопросы» и был благополучно принят в стан прогрессистов, где сразу же превратился во вполне неотличимого от других стихотворца третьего разряда.
Впрочем, середина века была трудным временем для всей русской поэзии, подмятой русской прозой (например, в эпоху так называемого «мрачного семилетия», с 1847 по 1853 год, журналы почти перестали печатать стихи). Что такое, например, политические стихотворения Тютчева, как не те же «вопросы», что у прогрессистов, только поднятые с другого конца? Волны же чистого лиризма, как было сказано по другому поводу, «укатились в неизведанную даль».
Бенедиктов — поэт перехода, поэт потерянных возможностей. В лучших своих стихах, написанных между 1835 и 1842 годами, он экспериментирует, рискует, ходит по краю. Его маниакальная одержимость женскими кудрями и грудью (то и другое — непременно буйное, пышное, стихийно-изобильное) выражена с уникальной в русской поэзии силой.
Нет, милые друзья, пред этой девой стройной
Смущаем не был я мечтою беспокойной,
Когда — то в очи ей застенчиво взирал,
То дерзостный мой взор на грудь ее склонял,
Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной.
«Порыв (Желание быть ваятелем)»
Какой удивительный подбор прилагательных! «Трепетность» и «прозрачность» — свойства скорее волны, чем горы; после стандартной «двухолмности» следует неожиданный эпитет «двураскатная», в котором физически ощутим страх высоты, раската и падения.
Недаром и само завоевание «выси благодатной» не сулит успокоения; поэт метафизически уподоблял его состоянию шаткого равновесия и непрочного царствования:
Те перси юные… о! то был дивный край,
Где жили свет и мрак, смыкались ад и рай;
То был мятежный край смут, прихотей, коварства;
То было бурное, взволнованное царство,
Где не могли сдержать ни сила, ни закон
Сомнительный венец и зыблющийся трон;
То был подмытый брег над хлябью океана,
Опасно движимый дыханием вулкана;
Но жар тропический, но климат золотой,
Но светлые холмы страны заповедной,
Любви неопытной суля восторг и негу,
Манили юношу к таинственному брегу.
«Три искушения»
Читая Бенедиктова, мы встречаем много такого, что не было востребовано последующей эпохой, но кажется удивительно созвучным русскому неоромантизму конца XIX — начала ХХ века: пафос, преувеличения, барочный дуализм плотской красоты. Нас останавливают смелые выражения, как «шалун главы твоей» (локон), «замороженный восторг» (публики), «гордостью запанцирилась грудь» и т.д. Вспоминаются Игорь Северянин, тоже выдумывавший «неведомый язык», и, конечно, Бальмонт — музыкальной раскатистостью стихов, —
Что, покинув небеса,
Вдруг летят в края земные,
Будто блестки рассыпные,
Переливчато-цветные
С огневого колеса.
«Вальс»
Неоромантизм в России во многом опирался на французскую эстетическую и «анти-реалистическую» традицию — Готье, Бодлера, Верлена, Малларме. Бенедиктов был попыткой создать такую же линию в России. Поэтому русский декаданс и символизм в какой-то степени и месть за погубленного романтика-декадента Бенедиктова.
V В заключение хотелось бы еще раз остановиться на проблеме автопародийности Бенедиктова, ибо вокруг этого роится много читательских недоумений. Точнее, недо-разумений, то есть недо-понимания. Говорить о «незапланированном комизме» у Бенедиктова нет, по-моему, никаких оснований: он хорошо знал, что делает, и обладал достаточным арсеналом приемов, чтобы делать именно то, что хочет. Так, если в переводе «Женщины-поэмы» Готье явно просеивается некий тонкий «комизм», то в «Собачьем пире» Барбье его нет и в помине, хотя там тоже изображается полуобнаженная женщина — аллегория Свободы:
Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке;
Свобода — женщина с широким, твердым шагом,
Со взором гневым
Под гордо реющим по ветру красным флагом,
Под дымом боевым.
И голос у нее — не женственный сопрано:
Ни жерл чугунных ряд,
Ни медь колоколов, ни шкура барабана
Ее не заглушат.
Свобода — женщина; но, в сладострастье щедром
Избранникам верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.
Этот неподцензурный перевод*, кстати сказать, так поразил Тараса Шевченко, что тот, приехав в Петербург, специально явился к Бенедиктову, дабы убедиться в его авторстве.
Бенедиктов хорошо знал мировую поэзию и владел ее разнообразными регистрами. Мы лучше поймем природу его «комизма» на фоне классических явлений европейской культуры. Например, за стихотворением «Позволь»: «С зарей уйду, потом обратно Прийду в лучах другой зари, — Лишь на мои ущербы, пятна Ты снисходительно смотри» — стоит, конечно, старик Анакреон и далее миф об Авроре и Тифоне. Сближение с Анакреоном в определенном смысле ключевое. Бенедиктов, как и античные лирики, сам является своим персонажем, то есть, носителем определенной маски. Известно, что в античном мире комическое было неотрывно от сакрального.
Под углом этой парадигмы и следует читать описание женских «персей» в «Трех искушениях», подчеркивающее их разрушительную, гибельную стихию: «мятежный край», «подмытый брег над хлябью океана», «дыхание вулкана» и так далее. Интересно сравнить это с ролью мятежа и бури в античной комедии, в том числе с бунтами женщин у Аристофана.
Любовная лирика Бенедиктова в некотором смысле пародийна, но это пародия в античном смысле, то есть без функции осмеяния. У него, так же как у Готье и у Бодлера, а ранее у поэтов-маньеристов и метафизиков (и, само собою, у греческих лириков), тема любви, Эроса изначально содержит ритуально-комедийный аспект. У Донна, например, даже сакрализация любви (скажем, в стихотворении «Канонизация») имеет ясный оттенок «священной пародии». При этом используются и такие бурлескные приемы, как в знаменитой «Блохе»:
У Бодлера в сонете «Гигантша» поэт мечтает стать котом своей возлюбленной, чтобы — Взгляни и рассуди — вот блошка:
Куснула, крови выпила немножко,
Сперва моей, потом твоей,
И наша кровь перемешалась в ней.
Какое в этом прегрешенье?
Где тут бесчестье и кровосмешенье?
Пробегать на досуге всю пышность ее очертаний,
Проползать по уклону ее исполинских колен,
А порой в летний зной, в час, как солнце дурманом дыханий, На равнину повергнет ее, точно взятую в плен,
Я в тени ее мощных грудей задремал бы, мечтая, —
Как у склона горы деревушка ютится глухая.
(Перевод К.Бальмонта)
Пародировать подобные стихи бессмысленно, ибо и «Блоха», и «Гигантша» сами по себе — ритуальная пародия, смех без осмеяния. Даже гениальный Прутков в своей «Шее» не мог превзойти бенедиктовских «Кудрей» с этой неподражаемо меланхолической концовкой:
Появились, порезвились.
И, как в море вод хрусталь,
Ваши волны укатились
В неизведанную даль.
Такие стихи играют с критиками в поддавки. Можно, не разобравшись, радостно схватиться за «подставленную» фигуру, не замечая, что здесь жертва, с которой начинается смелая комбинация. Зато истинные любители и через двести лет будут разбирать старую партию, вникая в скрытую гармонию ее простых ходов.
* «Пробирная палатка», в которой директорствовал К.Прутков, относилась к Министерству финансов.
* О. Мандельштам. Жак родился и умер, 1926. Цит. по: Слово и культура. М., 1987. С. 238.
* * Н.С. Гумилев. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 342.
* Может быть, относительные неудачи Гумилева в переводе связаны с гипертрофией в нем мужского начала: не зря говорят, что профессия переводчика женственная, восприемлющая.
* Английская лирика первой половины ХVII века. М., 1989. Этот и другие специально не оговоренные переводы — автора статьи.
* Ср. у Д. Чижевского: D. Cizevskij. Comparative History of Slavic Literatures. Baltimore, 1971.
* О платье, в котором явилась Джулия (1648) / Английская лирика. С. 236. В содержании перевод ошибочно приписан Т.Гутиной.
* * Там же. С. 223.
* Впервые опубликован в кн.: Русская потаенная литература. Лондон, 1861. С. 350.
